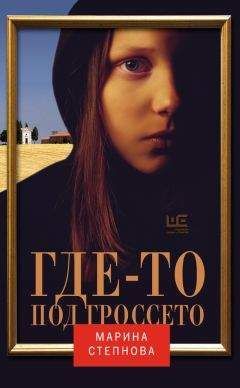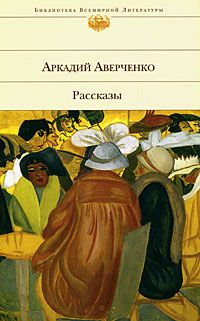Марина Степнова - Женщины Лазаря
— Разумеется, были. Хотя я бы предпочел, чтобы меня нашли в капусте — желательно, вашего приготовления. — Линдт улыбался и придвигал к себе тарелку с припухшими загорелыми пирожками так, что было совершенно ясно, что продолжения беседы не будет. В капустную начинку Маруся непременно добавляла вареное вкрутую яйцо, черный молотый перец и грибы. — Это ведь белые, Мария Никитична? Замечательно вкусно.
После того памятного предрассветного признания Линдт несколько месяцев разговаривал с Марусей с валкой, уклончивой осторожностью соучастника или канатоходца — будто и впрямь что-то зависело от каждого слова или жеста, будто Маруся действительно услышала его или поняла. Потом ему наскучила и эта игра, очередной жалкий самообман — ходьба на живых израненных подошвах по вымышленной — словно в насмешку — веревке, натянутой над ярмарочной площадью, забитой зеваками, которым нет до него никакого дела, потому что их и самих попросту не существует. В качестве головоломки, упражняющей мозг, это было неплохо, но для жизни годилось мало. И Линдт надолго смирился с существующим положением вещей, как смиряешься рано или поздно с гравитацией, которая не позволяет летать, несмотря на то, что трудно вообразить себе что-то более естественное для человеческого тела, чем полет.
Все пошло по-прежнему — может быть, даже лучше. В конце концов, у Линдта была еще и работа, которую он ценил. Не служба, ежедневно выдиравшая из жизни кусок с девяти до семи, так что на радости свободного существования оставалось всего несколько часов, из которых большая часть вынужденно приходилась на сон и еду, а именно работа — к тому же отлично организованная со всех точек зрения. И справедливости ради надо было сказать, что работой этой — как, впрочем, и практически всем остальным — Линдт был обязан Чалдонову.
Чалдонов, правду сказать, недолго мучился, благоустраивая МГУ, — уже в конце восемнадцатого года, по горло сытый молодой большевистской бюрократией, он пошел на поклон к Жуковскому, да-да, к тому самому, к своему университетскому учителю, покровителю, практически к отцу.
Жуковский, когда-то приметивший среди своих студентов сообразительного деревенского паренька, не просто вывел его в большую науку, но и много усердствовал для того, чтобы большая наука оказалась к Чалдонову благосклонна. Брак своего выкормыша с Марусей он одобрил чрезвычайно и на свадьбе честно выполнил все утомительные обязанности шафера, включая держание венца (на цыпочках) над огромным Чалдоновым и выслушивание длиннейших и занудных заздравных речей, которыми по очереди разражались все ученые коллеги невменяемого от счастья жениха. Марусю Жуковский очаровал совершенно — тем, что по страшной своей, анекдотической рассеянности принял за даму старого приятеля Питоврановых — иеромонаха Серафима, нисколько не смутившись наличием у последнего могучей рыжей бороды. Впрочем, праздничное бело-голубое облачение и пухлый зад отца Серафима могли ввести в заблуждение кого угодно, так что скисшей от смеха Марусе едва удалось спасти монашествующую особу, которую Жуковский во что бы то ни стало желал пригласить на пасадобль, не очень, правда, понимая, что это такое и как его, собственно, полагается танцевать.
Но в 1910 году, после многих лет замечательной дружбы, Жуковский и Чалдонов вдруг жестоко рассорились — причем по причине пустяковой и вопиюще антинаучной. Самым обидным было то, что сама эта причина почти мгновенно испарилась из памяти обоих — так исчезает порох, вспыхнув и дав снаряду возможность отправиться в смертоносный путь. Но, несмотря на это, все усилия Маруси и дочери Жуковского помирить двух упрямцев оказались тщетными. Жуковский и Чалдонов перестали не только встречаться, но и разговаривать, и это продолжалось — подождите-подождите… Господи помилуй! Восемь с лишним лет!
И вот Чалдонов, пламенея не только ушами, но и отчего-то даже носом, снова стоял перед своим старым учителем — теперь уже старым в самом прямом, мафусаиловом смысле этого слова. Разумеется, оба дореволюционно прослезились и дореволюционно же накрепко обнялись. Чалдонов извлек из-за пазухи заботливо добытый Марусей спирт — микроскопический мутный мерзавчик, который окончательно растопил и без того размякшее учительское сердце. Всласть обсудив и новую власть, и старых знакомых, пройдясь по поводу вопиющих цен и вопиющей же невежественности общих научных оппонентов, Чалдонов и Жуковский вновь обрели душевное равновесие и друг друга. Оба так и не смогли припомнить, из-за чего вдруг так разобиделись, и нашли в этом поистине гоголевский комизм, который, не помирись они сейчас, мог обернуться вполне гофманианской грустью. Подумайте, Сережа, ведь я, старик, мог умереть, так и не сказав вам, как вы мне дороги!
Все это было бы невыносимо банально, если бы не трясущаяся голова Жуковского и не зияющие раны на его книжных полках. Топить было нечем, торговать — тоже, да и не случилось у много лет вдовевшего Жуковского ловкой Маруси, умевшей сменять пару отличных поленьев за пару отличных же золотых сережек и никогда потом об этих сережках не жалеть. Дочь ведь вся в меня, Сережа, такая же ни к чему не приспособленная дура… Только вдобавок еще и математики не знает. Как жить — ума не приложу. Да и нужно ли? Может, и правда нет в нас никакого толку?
Чалдонов возмущенно замахал руками — да что вы такое, Николай Егорович, да о чем это вы, лучше послушайте, что я придумал и зачем, собственно, позволил себе к вам явиться. Помните, мы с вами обсуждали волновое сопротивление артиллерийских снарядов? Жуковский, все так же тряся головой, заулыбался. Он помнил — еще бы он не помнил!
— Так вот, — заторопился Чалдонов, — вообразите, что можно не обсуждать, а поставить все на сугубо научную и даже промышленную основу, получить, так сказать, отдельное направление, свое собственное — с отдельным финансированием, но не в этом суть. Главное — снова заниматься делом, а не этой… — Чалдонов передернулся, вспомнив свои тягомотные эмгэушные муки.
— А что же вы сами, Сережа, не возьметесь? — полюбопытствовал Жуковский.
— Мне не дадут, Николай Егорович, — просто ответил Чалдонов. — Авторитету не хватает. Малограмотных пестовать мне еще, по их разумению, можно, а вот до войны могут и не допустить. Надо, чтобы вы пошли — вам непременно доверят, вы единственный из специалистов, кто… — Чалдонов замялся, и Жуковский твердо закончил за него:
— Кто еще не помер да не смылся за границу.
Оба угрюмо помолчали, мысленно примеряя на себя все названные варианты. Зима была непростая — и выбор был непростой. В ледяном воздухе дыхание Жуковского походило на слабые седые иероглифы, таявшие быстрее, чем кто-то успевал их прочитать. Он был старый, совсем старый, его было мучительно жалко. Но у Чалдонова на руках были Маруся и Линдт. И он не собирался сдаваться.