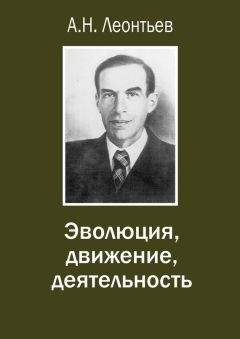Алексей Поляринов - Пейзаж с падением Икара
— Дорога в тысячу миль начинается с одного шага, — пробормотал я. — Верно сказано, черт возьми. Первый шаг — самое трудное.
— Хватит ныть. Иди уже, — сказал Донсков и толкнул меня. Я покачнулся, тяжелый рюкзак перевесил, и я медленно завалился на бок, как случайно задетая локтем ваза (в голове раздался звонкий треск фарфора — звук разбитой гордости).
Донсков от души рассмеялся, с удовольствием демонстрируя свои кривые, желтые, растущие практически в три ряда зубы.
Я попытался подняться, но рюкзак намертво пригвоздил меня к асфальту, и я безвольно барахтался в его объятиях. Перед лицом валялся раздавленный бычок (со следами губной помады на фильтре), было наплевано. Я ощутил такое дикое унижение, что чуть не заплакал: «как глупо, как все глупо!»
Петр подался вперед, чтобы помочь мне, но Донсков оттянул его за плечо:
— Не надо. Пусть сам.
— Но…
— Я сказал: сам.
Я снизу вверх затравленно смотрел на их лица — и увидел себя со стороны их глазами — и испытал презрение к этому тюфяку. Нельзя быть таким. Нельзя!
Сначала я хотел расслабить лямки и выбраться из капкана, но, подумав, понял, что для восстановления status-quo этого будет мало.
— Ты в порядке, Андрюх? Чего затих-то?
— Да пошел ты, — я сделал рывок; мышцы надулись, зазвенели под кожей, угрожая лопнуть. Я поднялся на колени и тут же снова рухнул, угодив лицом в липкий плевок и, кажется, разодрав щеку. Еще раз глубоко вдохнув, я перекатился на живот, подобрал колени, и, напрягая спину, стал разжиматься — еще и еще (мысленным взором я видел, как фарфоровые осколки у меня внутри стекаются, стыкуются и собираются обратно, возвращая к жизни разбитую вдребезги вазу — мою гордость). Через минуту я, красный от напряжения, стоял на ногах и вытирал лицо рукавом.
— Ты в порядке? — спросил Петр.
— Он в порядке, — сказал Донсков, — а ты — нет, — и толкнул его.
Петр рухнул, громко звякнув жестяной посудой, спрятанной в рюкзаке.
— С-с-сука! — хрипел он, пытаясь оттянуть лямку с карабином, впившуюся в плечо. Я наблюдал, как пульсирует его яремная вена.
— Заткнись и вставай.
После двух минут страданий Петру удалось подняться. Он злобно дышал и, скалясь, смотрел на Донскова.
— Это называется: Боевое Крещение, — назидательно сказал тот. — А теперь урок первый: свои рюкзаки всегда собирайте сами, никому не доверяйте это важное дело. Рюкзак должен весить столько, сколько ты сможешь пронести весь день и не надорваться: ведь Бог никогда не дает тебе больше, чем ты способен выдержать. А Бог мудр. Звучит, конечно, как клише, но это правда. Посмотрите, что у вас внутри.
Мы с Петром расслабили лямки, стянули баулы и стали доставать одежду — под слоем штанов и теплых носков лежали… кирпичи.
— Что за… зачем ты сделал это?
Донсков пожал плечами.
— Чтобы проучить вас, лентяев. В следующий раз не просите меня собирать ваши вещи и проверяйте их перед выходом. Ей-богу, как дети. Вам камней за шиворот накидали, а вы и не заметили! Нельзя так. Жизнь не прощает раздолбаев.
В моем рюкзаке оказалось семь кирпичей. Они были аккуратно обложены всякими тряпками, чтобы я не почувствовал их твердости. Доставая их и выкладывая на асфальт, я и сам сейчас не мог поверить, что ничего не заподозрил. Конечно, когда я в первый раз попробовал поднять рюкзак перед отъездом, я ощутил, что он весит больше меня. Я даже спросил у Донскова, что он туда положил, но он махнул рукой и сказал:
— Терпи, салага. Все это пригодится нам в походе.
Теперь, когда я освободил рюкзак, оказалось, что он не такой уж и тяжелый — килограммов двенадцать.
***Мы долго шли вдоль грунтовой дороги, потом остановились возле синего знака «с. Собачье» и свернули в лес.
— Скажи-ка, Дон, а куда мы идем? — спросил Петр.
— Я же говорил — мы идем к карьеру.
— Это я понял. Но, понимаешь ли, после того, что было на перроне, я… как бы это сказать, слегка тебе не доверяю. Не мог бы ты поточнее описать наш маршрут?
Донсков остановился, повернулся к нам и кивнул.
— Я уж думал, вы никогда не спросите. Урок второй — не верьте гидам. Всегда старайтесь иметь при себе собственную карту и компас. Где ваши карты и компасы, а?
Мы с Петром переглянулись.
— Дон, не буди во мне зверя. Я и так злой уже. А ведь мы в лесу.
— И что ты сделаешь? — спросил Донсков. — Забросаешь меня влажными салфетками насмерть? Не смеши меня, а? — Он закинул руки за спину и, словно стрелы из колчана, достал из рюкзака скрученные в трубочки карты.
— Вот. Маршрут помечен. Если потеряетесь, ищите опорные точки. Они обведены красным маркером. А вот компасы — один тебе, другой тебе. Пошли, салаги.
Лес щетинился ветвистой зеленью, солнце косо строчило лучами сквозь заросли (отпечатывая на сетчатке ломаные вспышки). Тонкие нити паутин сверкали, расходясь радиально и остро, как трещины на разбитом стекле. Сам же воздух, насыщенный хвоей, смолой, можжевельником был густ, как глицерин; но дышалось легко. Пару раз мы натыкались на огромные муравейники — с меня ростом. Некоторое время, прыгая с ветки на ветку, нас преследовали две белки.
И вот — мы вышли на открытое, залитое светом пространство, где уныло торчали сотни свежих пней, везде валялись спиленные ветки — след нелегальной вырубки. Запахло опилками, бензином — как на мебельном заводе.
— Стоп! — сказал Донсков.
— Что такое?
— Там кто-то есть, по-моему, — он, щурясь, вглядывался в заросли впереди.
— Кто?
— Да откуда я знаю? Сойди с моей ноги, блин!
Я смотрел по направлению его взгляда, но видел только зеленую чащу, сплетение веток, стволы. Ветки слегка шевелились от ветра… или от чего-то еще.
— Ладно, пошли. Померещилось, наверно, — сказал Донсков, и мы двинулись дальше. Только теперь наш путь уже не был таким ярким и безоблачным. Мы с Петром вертели головами, ожидая нападения, удара в спину. Казалось, даже птицы затихли. Я все время чувствовал чей-то взгляд на затылке, и от этого волоски на руках вставали дыбом. Мне было жаль, что я не захватил с собой оружия. Как же я буду отбиваться?
— Дон, а что ты видел?
— Да ничего. Я же говорю — померещилось.
— Нет, я имею в виду, на что это было похоже — на животное или на человека?
— Это было похоже на твою трусость! Успокойся. Никого здесь нет.
— Да? А это что тогда?
Мы обернулись. Петр показывал пальцем на блестящую в свете солнца алюминиевую флягу, привязанную к надрезанной ветке березы — из надреза во флягу потихоньку капал сок.
—Уже полная. Давно висит. Наверно, егерь оставил, — сказал Донсков; в его голосе звенели настороженные нотки.
Мы прошли немного дальше и наткнулись на тлеющий костер. Возле углей лежала небольшая старая брезентовая сумка, а рядом с ней — ружье. Мы стали озираться.
— Эй! — крикнул Донсков. — Отзовись! Мы пришли с миром!
— Может не стоит орать? — сказал Петр, вжав голову в плечи.
— Ага. Кто к нам с миром придет — от мира и погибнет, так что ли? Расслабься, Петрушка. Ружье лежит здесь — значит, он безоружен.
— Может, лучше нам просто уйти?
— Включи логику: здесь ходят охотники, а у нас нет светоотражающих жилетов. Издалека нас — а особенно тебя, — могут принять за оленя и подстрелить. Лучше сразу заявим о нашем присутствии.
Сердце мое колотилось об ребра так сильно, что аж закладывало уши.
— А разве охота здесь не запрещена?
— И что? Для дурака запрет подобен вызову: «нельзя» равно «рискни». Давайте подождем, может, он вернется скоро.
Донсков достал свернутую в трубочку карту, похожую на папирус, и раскрыл ее с таким важным видом, словно собрался зачитывать приказ Цезаря.
— Здесь болото рядом. Не расходитесь, — сказал он как бы между делом.
— А что, если этот охотник… ну, того, в болоте.
Мы оглянулись на Петра, он пожал плечами.
— Чего вы так смотрите? Я всего лишь предположил. Ты сам сказал, что фляжка давно висит, и костер уже потух.
Солнце заволокло облаками, и лес оцепенел. Меня пробрал озноб — как наждаком по спине.
Я не мог избавиться от навязчивых мыслей; я живо представил себе, как тугая трясина поглощает охотника: вот он влип по щиколотку, а вот уже по колено… он зовет на помощь, кричит, пытается выбраться… следующий кадр — по грудь застрявший в болоте охотник. Губы его посинели, глаза уже не блестят. Он только шепчет что-то, держась за дерн окаменевшими пальцами. Проходит время — и трясина проглатывает человека. Я тряхнул головой, стараясь отбросить шальные мысли, но образ намертво засел в подкорке — теплое тело, зажатое в пластах густого месива. «Сколько, — думалось, — сколько еще живет человек после того, как голова его скрывается под слоем мшистой, ноздреватой грязи? И умирает ли он от дефицита кислорода или от ужаса неизбежности?»
— Может, вернемся? На помощь позовем, а?
Донсков скомкал карту и, пиная камни, направился в чащу.
— Господи, какие же вы сопляки! Трусы! Зачем я вас взял с собой? Валите, на хрен, куда хотите! Все настроение испортили! Ноют и ноют, ноют и ноют! — Он сыпал проклятиями, но голос его дрожал. Он продирался сквозь заросли, яростно ломая ветки, и мы виновато семенили следом, как утята за мамкой.