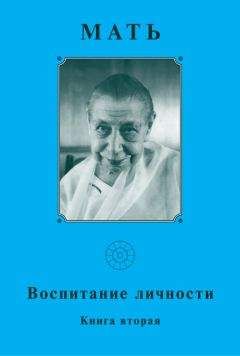Андрис Пуриньш - Не спрашивайте меня ни о чем
Вообще я стал хорошо учиться. Вторую неделю у меня ни одной двойки. Даже по геометрии круглая тройка, не с двумя минусами.
Говоря по правде, я учился ради папы и мамы. Мне хотелось, чтобы, помимо неприятностей, им перепадала от меня и какая-нибудь радость. К тому же наше дело на собрании еще не разбиралось.
Ввалился в квартиру: привет, мама, поцеловал ее, сегодня четверка и пятерка. Она обрадовалась не меньше меня, всегда бы ты, Иво, так, тебе же не приходится делать ничего другого, кроме как хорошо учиться. Обязательно, сказал я, хорошо учиться вовсе не так трудно, если капельку приналечь, а получать четверки и пятерки приятнее, чем тройки и двойки. Наконец-то ты это уразумел, смеялась она, съесть бы что-нибудь, только сперва переоденься. Кинул одежду в шкаф, надел черный тренировочный клоз, перекусил и с учебником математики улегся на кровать.
Завтра контрольная по материалу четверти, и пробел в мозгах по этой чертовой математике надо постараться за сегодняшний вечер заполнить. Хотя бы частично.
Включил магнитолу. Без музыки я не могу как следует думать.
И тут отворилась дверь, и в комнату вошел фатер. Это было нечто странное!
— Ты почему так рано сегодня, отец?
— А как по-твоему, почему?
Он посмотрел на моих блистательных драконов на шторах и отдернул одну половину. Теперь одна часть комнаты принадлежала солнцу, другая — мраку и драконам. Фатер подошел к магнитоле, но не выключил, только сделал потише. Подошел к окну и оперся о подоконник.
— Сегодня я был у твоей классной руководительницы.
— Почему? — глупо спросил я, и вдруг мне стало но по себе. Ясно почему.
— Она позвонила мне на работу и попросила прийти.
— Ах так?.. — протянул я.
— Да, так, — сказал он.
Это уж не лезло ни в какие ворота!
Я приподнялся и сел на кровати, прислонился спиной к стене, подтянул колени к подбородку и обнял их руками.
Фатер пошел к столу, на котором были разбросаны учебники. Он раскрыл дневник. Я знал, что прошлая неделя и эта в полном порядке. Позаботился даже, чтобы все четверки и пятерки были поставлены. Единственно, что меня удивило, с чего вдруг он начал интересоваться моими отметками.
Затем он взял сигарету из моей пачки «Риги», закурил и с пепельницей вернулся к окну.
Солнечные лучи падали на папино лицо слева, и я заметил морщины. Скорей всего я видел их и раньше, но как-то до моего сознания не доходило, что это означает… Незаметно он постарел. Года три назад он отрастил усы, и, может, они отвлекали взгляд…
— Что ты в тот раз там натворил?
— Где… когда?..
— Мама ни о чем не знает. И мне хотелось бы, чтобы она так и осталась в неведении. Не ради тебя, ради нее самой.
Я безмолвно кивнул.
Ну и тут я рассказал фатеру все, что было тогда. В конце концов, ничего, особенного не случилось.
— Я не намерен тебя отчитывать за то, что произошло, — сказал фатер. — Самому придется расхлебывать неприятности. Каждый может допустить оплошность, особенно в твоем возрасте. Ничего не случается только с кретинами.
— Кажется, я все же отчасти кретин, — сказал я. — По крайней мере, иногда я это чувствую.
— Пройдет, — усмехнулся фатер. — Единственно, меня беспокоит, что нет у тебя хребта. У твоего брата хребет был. За Эдиса мы всегда могли быть спокойны.
— Давай не будем говорить о брате, — сказал я. — Не надо.
— Ладно, — согласился он. — Поговорим о тебе.
— А чего еще говорить?
— Беда в том, что мама слишком занята у себя в техникуме. У меня большую часть времени пожирает академия. Возможно, тебе известно, что я как раз завершил докторскую диссертацию.
— Я знаю.
— Ты предоставлен самому себе. Когда был жив Эдис, тогда мы могли…
— Не будем говорить о брате, — повторил я свою просьбу.
— Если как следует подумать — что я о тебе знаю? То, что тебя звать Иво, что ты мой сын, что тебе почти восемнадцать лет, ты учишься в десятом классе и что мы проживаем в одной квартире. Что еще, так сказать, существенного?
— Да больше и нет ничего существенного… Я живу как все, кто учится в школе.
— Но ты, конкретно ты! У меня ты отнюдь не ассоциируешься с массой школьников, для меня ты один-единственный, отличающийся от остальных, потому что ты, именно ты — мой сын! Да, да!
— Не знаю, что сказать…
— Чем ты интересуешься за пределами школы?
Я было засмеялся.
— Жизнью.
— Да перестань ты кривляться!
— Конкретно ничем. Но понемногу всем.
— А что ты собираешься делать после школы? Пойдешь в институт? Поступишь на работу?
— Я и сам еще не знаю. Впереди еще год с гаком на размышления.
— Кажется, частично вина лежит на мне самом. Позволял Эдису быть для тебя, как… как бы вместо меня… делать то, что должен был делать я… и даже радовался, поскольку отпадала значительная часть забот, мог с головой уйти в научную работу, защитить диссертацию.
— Возможно, — сказал я. — Хоть мне и кажется, что не это существенно.
— А что же тогда?
— Сам не знаю.
— Ты с кем-нибудь дружишь в классе?
— Да. С Яко, с Алфредом, с Эдгаром.
— И они тебе хорошие друзья?
— Да. Они мировые ребята.
— А который из них Осис?
— Алфред. Но ты откуда знаешь?
— Тейхмане говорила, что на тебя и остальных дурно влияет некий Осис.
— Глупости! Фред правильный парень.
— Классная руководительница думает иначе. А ведь она вас видит каждый день.
— Она ничего не знает.
— Вот те на! И она ничего не знает. Кто же тогда знает?
— Каждый знает сам про себя. И про него знают его друзья, и он знает про своих друзей.
— Видал, как все просто…
— Но так уж выходит… Что тут поделаешь…
— Все это немножко больно. Во всяком случае, для меня. Ты все-таки мой сын.
— Пап, ты не волнуйся, — сказал я. — Ничего плохого со мной не случилось и не случится. Вот только этот чертов пивной бар.
Фатер махнул рукой.
— Авось как-нибудь переживешь.
Мы о чем-то еще поболтали, и я остался один.
Странно. В самом деле, о чем особом нам было говорить-то? О его химических проблемах? Что я в них смыслю? Говорить обо мне? Что я могу ему рассказать? Разве может его интересовать моя личная жизнь? Возможно, да. Но какая радость мне говорить о ней, если он все равно меня не поймет? Рассказывать о каждом прожитом дне: что, где, с кем? Глупо. А что еще? Ну ладно, вляпался я в историю. Теперь нам есть о чем поговорить. Он может прочитать мне мораль, я могу покаяться в грехах и пообещать, что больше так делать не буду (я это на полном серьезе, без малейшей иронии). Прочие наши разговоры будут проходить в рамках наших домашних дел. Мы же не проводим время вместе за пределами дома, как я со своими друзьями, с которыми мы и в школе и повсюду рядом… Да и проблемы у нас разные… То, что волнует и интересует меня и моих друзей, вряд ли очень трогает отца…
Посудите сами: если бы мне пришлось дружить с ребятишками младших классов. Ну что общего может быть у меня с ними? Играть в войну или в прятки? И если я скажу: «Вон идет клевая девочка, пошли поговорим», — они будут показывать на меня пальцами и верещать: «Девчатник, девчатник!»
Я где-то читал или слышал, что на жизнь надо смотреть как на театр. Я очень хотел бы следовать этому совету, но не могу и, кажется, так никогда и не смогу. В этом моя трагедия.
Я пустил магнитолу погромче.
Пойте, Назарет!
Да сгинет тьма!
И я раздвинул шторы до конца.
Ослепительное солнце метнуло огонь в глаза.
Я не отвернулся.
Я смотрел на солнце.
Я стал поклонником огня и солнца.
Вытянул руки и по локоть окунул их в солнце, поднял полные пригоршни к иссиня-синему небу, золотистые ручейки между пальцами невесомо стекали на Землю, и все стало прозрачным и золотисто-светлым…
Судный день настал. Даже. небо было пасмурным и плакало над нашей судьбой крупными каплями дождя.
Все уже знали, что и как.
Комсомольское собрание должно было начаться после шестого урока. Большинство ожидало собрания с необычным нетерпением, как интересный спектакль. Наверно, я и сам ждал бы с интересом, если бы дело не касалось меня самого.
Мы втроем уселись на последней парте. Пришла Тейхмане и прогнала нас вперед. Еще бы! Весь класс должен был нас видеть. Мы с Яко сели за первую парту в ряду у окна, Фред позади нас.
Вперед вышла Паула — стройная, круглолицая, быстроглазая — комсорг класса. Волосы у нее на затылке были собраны в конский хвост, ах, ах! Поморгала длинными ресницами, поглядела на потолок, и собрание началось. Сперва, конечно, обычные формальности. Когда голосовали за повестку дня, оказалось, что наше дело — третий, последний вопрос.
Фреди наклонился к моему уху и шепнул: