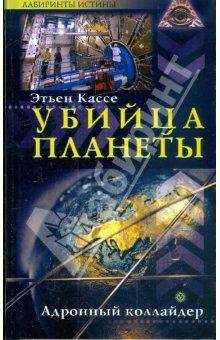Дьердь Далош - Обрезание
Они все время собирались разводиться, а в конце концов пришлось силой оттаскивать их друг от друга; было это на товарном вокзале, их затолкали в разные вагоны, и те не остановились до самого Освенцима, и не было больше ни дома в тени деревьев, ни ссор, ни дорогих украшений, а были только аппельплац да барак, а потом — газ, который не делал различия между жертвами, не смотрел, достигли они чего-нибудь в жизни или не достигли.
А все-таки, как насчет любви-то, не унимался Роби Зингер. «Где любовь, во имя которой Аида и Радамес по доброй воле выбрали смерть в каменном склепе?» — поставил Роби перед матерью вопрос. «Не действуй мне на нервы!» — раздраженно ответила она; и прямо там, перед казино на острове Маргит, расплакалась. «Вначале было очень хорошо», — сказала она позже, когда немного успокоилась. Конечно же, прекрасной была и та встреча в кружке еврейской культуры, в месяце ав пять тысяч семьсот первого года. Андор Зингер читал там доклад на тему «История нашего народа в зеркале изобразительного искусства» и заслужил бурные аплодисменты, мать же в паузах играла на фортепьяно этюды Шопена.
«Только я сразу после этого залетела, — добавила мать; ее можно было понять так, что „залетела“ она из-за Шопена. — И тогда от ребенка пришлось избавиться». — «Почему? — вскинулся Роби. — Почему, мама, избавиться пришлось?» До него вдруг дошло, что его лишили брата или сестренки; будь это мальчик, он был бы ему старшим братом и сейчас бы они вместе проходили бармицву. «Почему-почему… Потому что он был бы незаконнорожденным», — ответила мать; они встали со скамейки и пошли в сторону моста Маргит: начинало темнеть.
Роби Зингер не без причины так упорно — хотя и безрезультатно — пытался узнать у матери что-нибудь о любви. Сам он уже почти полгода пребывал в том счастливом, стесняющем грудь волнении, которое поэты называют любовью.
Как-то летом, в конце месяца элул, в послеполуденные воскресные часы, у них в гостях была Ютка со своими родителями. Ютка приходилась дяде Енё и тете Ютке внучкой, ее и назвали в честь бабушки, тети Ютки, на которую она, как считала бабушка Роби Зингера, была похожа как две капли воды. Отец Ютки служил в полиции и был лейтенантом, ему очень шла синяя униформа, Роби Зингер с радостью прогулялся бы с ним по проспекту Ленина или, даже еще с большей радостью, по улицам Обуды, на глазах у интернатских ребят. Вот только у молодцеватого полицейского было столько важных дел, что вряд ли он выкроил бы время прогуливать толстого племянника. Золтанка — так бабушка ласково звала отца Ютки — очень гордился своей дочерью, которая уже ходила в восьмой класс; ее собирались еще записать в танцевальную школу.
Во время той летней встречи почти ничего и не произошло. Пока взрослые беседовали, Ютка и Роби в материной комнате с воодушевлением играли в «Кто смеется последним». Бабушка зашла к ним всего один раз, принесла малиновый сироп и сладости. Они сыграли четыре партии, три из них выиграла Ютка, так что она была очень довольна, хотя и сказала пренебрежительно, что это игра для маленьких и ей немного скучновата.
Когда гости прощались, Ютка поцеловала Роби в обе щеки. В этом тоже ничего особенного не было: много лет, расставаясь, они обменивались таким родственным поцелуем. И все-таки в этот раз что-то было не так, как всегда: ощутив прикосновение губ девочки, Роби почувствовал, как по телу его волной пробегает непонятное возбуждение. Ноги вдруг онемели, голова закружилась, ему даже пришлось на мгновение прислониться к кухонной двери. К счастью, Роби быстро взял себя в руки, и никто ничего не заметил.
Потом, позже, ему вновь и вновь вспоминались эти теплые губы, и он раз за разом проигрывал в воображении тот момент, когда они прикасались к его щекам. А вечером, лежа на пружинах интернатской койки, он восстанавливал в памяти весь тот день, представлял, как они сидят на лоскутном коврике в маленькой комнате, третий, четвертый раз играя в «Кто смеется последним». Ютка бросает кость, и косы ее, закинутые вперед, подпрыгивают. Робкие выпуклости у нее на груди скрыты под белой блузкой и пестрым жилетиком; и еще на ней темно-синяя юбка с оборками. Господи, спрашивал себя Роби Зингер, как такое возможно: ты видишь юбку, видишь подрагивающие косы — и чувствуешь бесконечное блаженство и безграничную грусть, причем в один и тот же момент?
Тогда, в темноте дортуара, он настолько был переполнен этим воспоминанием, что добровольно отказался от манипуляций, которые бабушка называла «мерзкой привычкой»; с помощью этих манипуляций Роби в последнее время все чаще пытался извлечь из своего тела такое острое, хотя и недолгое наслаждение. Забаву эту Балла называл «рукоблудием» и утверждал, что настоящему мужчине она совсем ни к чему, настоящему мужчине вполне хватает занятий спортом и усердной учебы. И вообще, говорил учитель, эту энергию нужно экономить: когда интернатовцы станут взрослыми мужчинами, а тем более отцами семейства, она им очень даже пригодится. И еще он говорил, что дело это не такое уж безобидное: со временем оно сказывается на позвоночнике, не говоря уж о том, что Всевышний тоже его не одобряет. Однако, несмотря на все предостережения, воспитанники-подростки, все без исключения, усердно предавались «рукоблудию», а восьмиклассник Амбруш делал это иной раз совершенно открыто, на глазах у всех.
Роби Зингера часто мучила совесть из-за растрачиваемой попусту энергии, хотя он и утешал себя тем, что он еще не настоящий мужчина и до этого ему еще далеко. Небесных сил, будь то Адонай или Иисус Христос, он боялся, но все равно не в силах был отказаться от удовольствия, которого иной раз добивался по два-три раза, чтобы затем провалиться в блаженный, расслабленный сон. Мечась между вожделением и раскаянием, он придумал для себя некоторый компромисс: каждое ночное прегрешение старался на другой день уравновесить каким-нибудь хорошим поступком, все равно, будь то отличный ответ по истории или помощь божьей коровке, лежащей на спине во дворе синагоги. Ему казалось, что таким образом общий баланс с небесными силами складывается приблизительно в его пользу, а «мерзкая привычка», от которой, как видно, никак не избавишься, выглядела чуть ли не как предпосылка «хороших поступков».
Для Ютки же он утром сочинил стихотворение, темой выбрав голубые глаза кузины. Собственно, стихотворение представляло собой перечень сравнений: глаза Ютки он приравнивал то к морю, то к небу, то к государственному флагу Израиля, то к обоям за шкафом, где хранились свитки Торы; но в конце он приходил к выводу, что ни один из этих объектов не достоин сопоставления с Юткиными глазами. На этой мысли стихотворение и было построено. «Много синего видывал я, но прекраснее всех синева Твоя», — такими строчками завершалось стихотворение, и Роби Зингер авансом сразу зачислил его в хорошие поступки, которые предстояло совершить в этот день.
А через две недели после того воскресенья к ним, с выплаканными глазами, прибежала мать Ютки: Золтанка, будучи на службе, попал в автомобильную аварию и погиб. Случилось это в начале недели, и, когда Роби Зингер, как обычно, приехал на шабес домой, бабушка встретила его словами, что сейчас они поедут к бедной Розе, выразить соболезнование.
Хоть Роби Зингер и старался не показать этого, трагическое известие потрясло его до глубины души. Правда, мысли вращались не вокруг доброго красавца дяди, с которым ему теперь уж не прогуляться ни по проспекту Ленина, ни по улицам Обуды. Роби Зингера занимала прежде всего судьба Ютки, которая теперь — наполовину сирота, как и он. Как утешить ее в свалившемся горе? Конечно, он, Роби Зингер, как сирота с большим опытом, мог бы дать ей пару советов. А лучше всего — поплакал бы вместе с ней, прижавшись лицом к ее лицу, чтобы слезы их смешались. Они бы плакали долго, гладя щеки друг другу. Заодно это было бы хорошей иллюстрацией к истине, которую высказал учитель Балла: насчет того, что утешение прямо вытекает из скорби.
Визит соболезнования, с которым Роби Зингер и бабушка пришли на Орлиную гору, в ведомственную квартиру, где тетя Роза жила теперь на правах вдовы, прошел без бурных сцен. Гости и хозяева сидели в гостиной, обставленной легкой современной мебелью, и смотрели на портрет Золтанки на стене. Бабушка, глядя на самоуверенную фотоулыбку покойного, старалась и в этой улыбке вычитать добрые виды на будущее. «Не кручинься, Роза, жизнь ведь для каждого приберегает не только плохое, но и хорошее. У тебя вот есть красавица дочка, ты ее вырастишь, с Божьей помощью, и она тебе столько радости еще доставит».
Потом, уже на улице, бабушка стала ругать автомобили: их кругом все больше и больше, плюнуть некуда, одни автомобили всюду, бедный Золтанка, и зачем ему понадобилось на машине ехать? Поезда ему не хватало? Семья для него не важнее была? Да вся полиция, вместе взятая, этой семьи не стоит! И войну он пережил, и в нилашистские времена уцелел — и надо же, после всего этого нужно было ему умереть, оставить несчастную Розу одну! Да она же отощает, на борзую станет похожа, а девочка-то — вон какая вся бледная, в лице ни кровинки, только огромные голубые глаза светятся, как у бабушки ее, тети Ютки, которую звери-нацисты убили… О, эти проклятые, вонючие автомобили!