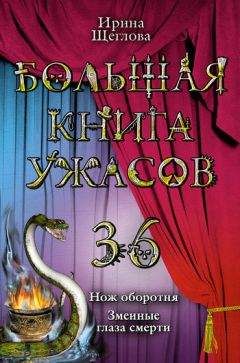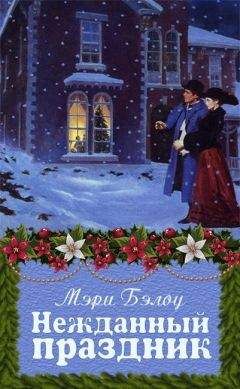Марк Харитонов - Этюд о масках
Шерстобитов следил за работой машины долго, пока она не уехала; фраза, оборванная на слове «бесстрастность», остыла и не поддавалась продолжению. К мусорным бакам подошла пятнистая кошка, обнюхала их — и Шерстобитов вдруг вспомнил про свою серую: лежит ли она сейчас под дверью? Наверняка лежит, у помойной будки ее ни разу не видели — как будто доказывала что- то. Кошка (а может, и кот) повадилась к ним месяц назад по вине Мишеля: он застал ее однажды на лестничной площадке да по глупости вынес тогда в газете случившейся требухи. С тех пор она стала дежурить у дверей, хотя едой ее больше не баловали. Тамара приваживать ее запретила, пробовала гнать, но зверюга с удивительным упрямством и хитростью возвращалась. Заслышав у двери шаги Тамары, она предусмотрительно отходила на безопасное расстояние, справедливо предполагая возможность пинка; Мишеля же не боялась — не удостаивала. Когда он украдкой выносил ей колбасных шкурок, кошка поднимала на него медленный укоризненный взгляд — становилось неловко, честное слово. Будто хотела спросить: почему она должна сидеть на лестничной площадке? Еда — что, еду она принимала снисходительно и даже как-то высокомерно, ее интересовал принцип: чем она была хуже тех, кто без особых заслуг и доказательств порядочности пользовался благами приличных жилищ? Мишель сам понимал, что невесть откуда приблудившееся животное нельзя пускать в дом к шестилетнему ребенку; Гоша и так уже к этой кошке тянулся. Несколько раз Тамара велела прогнать ее; кошка позволяла Шерстобитову вынести себя во двор, потягивалась там, вздыхала и, оглянувшись на Мишеля, уходила гулять; через несколько часов она вновь была на своем посту. Наверняка и сейчас там дежурила. Мишель не выдержал, оторвал бесполезный взгляд от строчки «этим объясняется бесстрастность» и пошел к двери. Кошка лежала на половике, смотрела на него, при- щурясь, одним глазом. Взгляни она на него нормально, как положено кошке, Мишель остался бы спокойным. Но этот подмигивающий прищур почему-то вдруг вывел Шерстобитова из привычного равновесия — будто напомнил что-то. Потом он долго удивлялся, что на него нашло: с неожиданной для себя резкостью хлопнул дверью, схватил одной рукой кошку под брюхо, запихал ее за пазуху рубашки и как был, в комнатных сандалиях на босу ногу, спустился по лестнице. Он шел торопливо, от непривычки к ходьбе у него началась одышка; у остановки он, не глядя, сел в первый остановившийся автобус, даже билета не взял, на следующей остановке сошел и тем же поспешным (по своей мерке) шагом двинулся по незнакомой улице, чувствуя за пазухой у груди горячую живую дрожь мелко перекатывающегося похрапывания. Он шел, петляя, словно желал сбить кого-то со следа; в незнакомом переулке, у желтых бараков, осторожно спустил кошку за чей-то забор — а сам трусцой, чтоб не спохватилась вслед. Бежал и оглядывался, точно не от кошки прятался; рубаха на белой потной груди расстегнулась, лысина блестела, короткая борода курчаво слиплась. С улицы он свернул в небольшой парк — это показалось почему-то хитрым маневром — и здесь опомнился: остановился, захохотал. Пенсионеры, игравшие в тени за шахматными столиками, удивленно оглянулись на эту громоздкую фигуру в сандалиях на босу ногу и в пижамных коричневых штанах без карманов. Об отсутствии карманов Мишель вспомнил, когда увидел перед собой пивной ларек и обнаружил, что при нем нет ни копейки, равно как и ключей от захлопнутой двери. От этого открытия пить тотчас захотелось, как никогда в жизни: точно горло кто-то нарочно стал натирать сухой жесткой щеткой да еще коготками прицарапывать. Мычать хотелось от досады, ларек магнетически притягивал к себе, и Шерстобитов не нашел в себе силы оторваться от очереди, стоял, медленно продвигаясь вперед, примеривая безнадежные просьбы к толстухе буфетчице поверить в долг и не менее безнадежно озираясь в поисках знакомых, — как вдруг уже близко от окошечка, прямо перед собой, вернее под собой, в самом деле увидел светлую, с плешинкой макушку того, кого меньше всего ожидал встретить: недавнего Андреева гостя. Он не заметил его сразу, наверно, лишь потому, что смотрел поверх его головы; те, кто привыкли видеть Мишеля преимущественно сидящим, сейчас оценили бы самоварную мощь его телосложения, особенно ощутимую рядом со щуплым масочником: в Шерстобитове уместились бы двое, а то и трое таких, как он.
— Цезарь, — загудел он и сжал плечо масочника так, что тот не только вздрогнул, но почти присел. — Дорогой мой, — тут от прилива чувств он, наклонясь, даже чмокнул его в щеку, — вы мне посланы судьбой. Есть у вас лишний четвертак? Потом все объясню…
Несмотря на собственное нетерпение, Мишель говорил не быстрее обычного, и конец его фразы совпал с окриком буфетчицы: «Вам сколько?» К счастью, Цезарь оказался малым понятливым, к томуже он заметно обрадовался возможности услужить, и через минуту оба уже отходили от павильона с кружками в руках к шахматным столикам; один из них оказался свободным, и даже фигуры на доске были расставлены в первоначальном порядке. Парк был малолюден, из репродукторов слышалась громкая музыка.
— Сыграем? — хмыкнул Шерстобитов, утешив горло благодатной жидкостью. — Пока не гонят… А я, понимаешь, выскочил за дверь без ключа и денег. Нашло что-то на меня. Вообще как-то странно себя чувствую.
— Жара, — с готовностью объяснил масочник. — Исключительно действует на сердце и психику. Я по своему Асмодею замечаю. Даже от лягушек бросается, как от. Кошмара и мечется, бегает по дороге — прямо одурелый. Говорят, и у людей последнее время наблюдается.
— Откуда ты взял?
— По радио слышал. От пожаров также предостерегали.
— А… Нет, я сам по себе. Я от погоды не завишу. Зверюга одна меня сбила с толку.
Шерстобитов был все еще возбужден, за пазухой у груди теплилось ощущение живого дрожащего дыхания. Как и Скворцов, он почему-то сразу стал говорить Цезарю «ты», принимая в ответ, как должное, «вы»; что-то во внешности масочника, в его уважительной, чуть не подобострастной повадке располагало к неравенству. Он и глядел на бородатого Мишеля снизу вверх (впрочем, теперь они сели на скамейки у столика, и разница в росте сгладилась), и слушал, не перебивая, что при медлительной манере Шерстобитова было редкостью; обычно его долгие паузы подзуживали собеседника вставлять свое. Но Цезарь из почтительности позволял себе вступать лишь к случаю, и это поощряло необычную разговорчивость Мишеля.
— Так что, — повторил он, — сыграем блиц?
— Я плохо умею в шахматы, — пробормотал масочник.
— Мало ли… Я сам много лет не играл. Теорию почти забыл.
— Тем, кто не знает теории, я всегда проигрываю, — поспешно заверил Цезарь.
— Да? А у тех, кто знает?
— С теми обычно ничья.
Мишель отхлебнул пива и покосился на очки масочника: в них опять почудился отблеск.
— И с кем случается чаще играть? — спросил он.
— С самим собой. Я играю исключительно с самим собой. Я, видите ли, живу уединенно, — начал объяснять он.
— Подмигиваешь! — уловил наконец отблеск Шерстобитов и захохотал. — Я так и почувствовал, что подмигиваешь.
Масочник, не понимая причины его веселья, сконфуженно улыбался на всякий случай.
— Нет, дай я тебя еще поцелую, спаситель мой. Мишель перегнулся, навалясь брюхом на стол, и сбил бы шахматные фигурки, если приблизил навстречу щеку, в которую и был чмокнут. — А ты ведь, помнится, живешь за городом. Как ты здесь очутился?
— Совершенно случайно, — с готовностью объяснил Цезарь. — Мне назначил встречу Глеб Иванович и не пришел.
— Глеб Иванович — большой шутник, — неопределенно хмыкнул Шерстобитов. — Ты не находишь?
— Исключительно остроумный человек, — согласился масочник. — И такая сила воображения. Я перед ним… — он даже захлебнулся каким-то чересчур восторженным словом и не сумел его выговорить. — Если бы не он…
— Ты б наверняка не сидел здесь и не играл со мной в шахматы, — закончил за него Мишель. — Между прочим, твой ход.
Масочник побледнел, как будто эта новость крайне его испугала, запоздало рокировался.
— Вы замечательно играете, — пробормотал он, и краска вновь вернулась — не столько на щеки его, отчасти голубоватые от пиджачка, отчасти с зеленцой от окружающей зелени, — сколько в прыщи. — Скажите, — осмелев, обратился он к Мишелю, — а вы действительно настоящий философ?
— Настоящий! — захохотал Шерстобитов. — Как Сократ. Или Спиноза. Как Иммануил Кант. Вопрос, как говорится, в яблочко. Мой вундеркинд Гоша смутился, когда его спросили о родителях. Кто, спрашивают, твоя мама? Инженер. Это прекрасно, это естественно, это почетно. А папа?.. Ну представь, каково тут отвечать: папа… нет, даже выговорить в наше время неловко. — Он осклабился, все больше почему-то возбуждаясь — теперь еще и пивом: — Мой папа — философ… Тебя надо познакомить с моим вундеркиндом, он завтра прибывает из Евпатории. Удивительный, озадачивающий ребенок. Он не может играть с детьми во дворе, ему неинтересно: при любой считалке он заранее выводит в уме, кому выпадет водить. Современные городские дети.