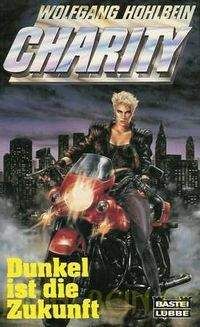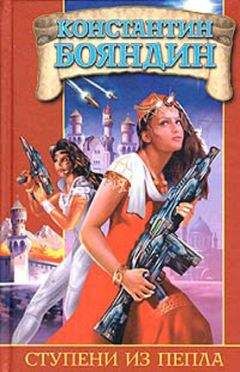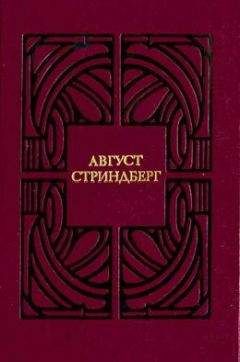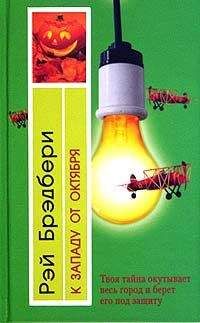Вольфганг Хильбиг - Временное пристанище
Западные, не в пример восточным, напоминали, причем, казалось, все больше и больше, торговые центры. От городских они отличались разве что тем, что магазинам разрешалось работать здесь допоздна. Ц. стоило больших усилий не заплутать на вокзалах, как это вечно случалось с ним на пешеходных торговых улицах. Не раздумывая, он съезжал по эскалатору и попадал в подземный торговый пассаж: такие были почти под каждым крупным вокзалом. Магазин нанизан на магазин, ураганный огонь светорекламы гонит вперед покупателей, ритмичными волнами разноцветного света несет толпу по галереям, и в дверях шопов и маркетов, аптек и бутиков, кафе и пивных люди все более отчуждаются от себя. Ц., волочась вслед за толпой, нет-нет да и вздрагивал: не прозевал ли поезд. И очень скоро, смятый и павший духом, он вставал на эскалатор, поднимавший его наверх.
А поезда, что потом везли его по стране, бывали почти пустыми: он пережиток прошлого, единичный сей обитатель купе, поездной книгочей, который, бывало, заснет над своими никак не кончающимися страницами, а потом, встрепенувшись, повернется к окну, к пролегающему параллельно путям автобану, по которому мчат автомобильи стада. Смеркалось; прижавшись щекой к стеклу, он смотрел, как они обгоняют поезд. Как срываются с места, точно каждому на закорки вспрыгнул докучливый бес, вонзая шпоры в бока, – скорей отвязаться от неотступного! Как несутся на вираже, подлетают к дороге, идут на приступ – и продолжают ход параллельно путям, на секунду словно застыв, а потом, набирая скорость, неодолимо уходят в отрыв. Верные дисциплине, тесно сомкнутыми отрядами, через минуту готовыми разомкнуться, – одинаково полые лбы за лобовыми стеклами… тела начиненными смертью задами воссели на силищу, коей не обладают, сросшись с рулем, хозяином их кулаков, – мчали они вперед, будто подстегнутые кнутом великого водителя стад. И этот великий пастух есть капитал… мысленно приговаривал Ц., видя из окон поезда слившиеся воедино цепи притушенных фар, а поверху – облако раскаленного газа, облако сладостных аравийских благоуханий, будто от горящего нефтепровода, облако разноцветных миазмов, плывущее по-над ними, когда они строем гонят по трассе, громадные искристые автомобильи соты, а он, пастух, знай погоняет; от заправки к заправке – где они напитаются манной своей, накачаются божественным спиртом своим. «Угробишься, шваль!» – орал их пастух, их бог, которому стада его давно опостылели.
«Угробишься! Всех угробишь!» Это он, обленившийся бес, это он в алой дымке реет над ними, манит вперед все поспешнее: «Угробь себя сам!» Ленивый заступник, он дал им карт-бланш. И когда манит, то манит их же рукой. И, невидимый, поднимает скипетр на выезде с бензоколонки: «Поехали! Быстро, быстро! Угробишься! Вшшшшик – и в фоб!» Это дух наживы, их пастырь, их бог, их великий Шикльгрубер. Это он дает стартовый выстрел на гладком, как зеркало, выезде с бензоколонки. А-а-а-а-а-а-а-аааааа! – наполнившись манной, газуют они послушно, сомкнув ряды, с радостным криком смерти, оцепенело глядя вперед, победоносно склонясь над лентой ночной автострады. Здесь, на трассе, хмельные от скорости, верные линии металлического барьера, в бесконечном тоннеле дороги, в искусственном свете, они вдруг замечали слепое пятно, которое каждый носит в себе и вот уж который век тщетно пытается распознать. Пустота в твоем теле, абстракция, – здесь, в отряде, вдруг понималось, что такое самость, что такое Я, оно переводится очень простым иностранным словом, и это слово – авто. И когда их бог, великий пастырь, великий Шикльгрубер, важно взмахнет своим скипетром: на волю! поехали! расстаемся! – они, подчиняясь зову автомобильей своей души, бодро рванут вперед: А-а-а-а-а-а-ааааааа
Переживем ли мы этот век? – спрашивал одинокий читатель в своем купе. Переживем. Один этот век мы еще точно переживем.
Читатель испытывал страх. Страх бил без разбора, нападал снова и снова, в любую минуту, сзади, сбоку, нежданно-негаданно, среди белого дня, предупредить удары сделалось невозможно. Прыгал в лицо с газетной страницы, из книги, самые безобидные мысли выворачивал наизнанку, обращая их в страх. Если ты расправился с мыслью, порождающей страх, – это еще не значит, что она не вернется вновь вместе со столь же безжалостным страхом; нет никакой гарантии, что мысль, пришедшая в обличье дружелюбия, не обнажит внезапно голый остов страха.
Редко случалось, что он уезжал после чтений с хорошим чувством. Обычно ему казалось, что он потерпел жалкий провал; в той роли, которую он играл, было нечто невыразимо фальшивое, он в ней неузнаваем. Как будто непостижимые обстоятельства выводят тебя на чистую воду: того, кого они ожидали увидеть, попросту не существует… казалось, сложилась легенда, сложился публичный образ, которому он не соответствует, с которым не в силах справиться. Но к которому исступленно пытался приблизиться; из своего бездонного омута, гэдээровского небытия бежал он к этому фантому, неизбежно терпел фиаско, и публика расходилась разочарованная и смущенная. Потом сидел в отеле, уничтоженный, – не существуя ни как автор, только что симулировавший литературные чтения, ни в какой бы то ни было иной ипостаси!
Он спрашивал себя: чего они ждали? Какому образу он не сумел соответствовать? Ложился на гостиничную койку, ждал, пока жалкое трепыхание уязвленной души не поутихнет… это займет какое-то время. Когда дрожание перекинется на конечности, с ним будет легче справиться… Истекая влагой многократных приливов пота, сбрасывал, не вставая с кровати, склизкие тряпки, покуда не оставался лежать на холодном белье в чем мать родила; мало-помалу в мозг возвращались мысли, которые можно было обдумывать. Горел свет, он забыл задвинуть гардины. Он закрывал занавески и снова валился на койку. Пытался подумать о какой-нибудь женщине из оставшихся в ГДР; ни один из образов, скудноватый ассортимент которых все же имелся в запасе, не желал возникать в уме. Со зловредным упрямством всплывали лишь очертания матери его приятеля Г.: махонькая фигурка, вертляво-умненькая, рядится в западные тряпки из Интершопа, в которых кажется еще более гэдээровской. Он представлял, как ее иронический взгляд падает на его холодным потом пропитанные гениталии, беспомощно стекающие из паха, и, когда кругленькое аккуратное личико начинало приближаться к этому существу, к этому разоренному скопищу коричневатой волосистой кожи, поскорее прикрывал его обеими руками.
Со временем существо согрелось, и он снова его почувствовал… ощутил, как оно шевелится под чуткими ладонями, возвращаясь к хозяину. Каторжная работа, которую он там, в ГДР, справлял – в том числе и на благо тамошней литературы (чтобы ее высоко ценимых на Западе представителей обеспечивать двух– и трехкомнатными квартирами), – эта работа не убила чувствительности его ладоней.
Нет, у него и глаза «не такие», и член «не такой» – все не как у поэта, все не по предписаниям гэдээровской литературы. И умением держаться культурным посланцем своего государства, наподобие тех восточногерманских писателей, которые много чего в ГДР критикуют, особенно по части культурной политики, но в то же время называют это государство своим, – этим умением он тоже не наделен. Такая позиция одобряется западной публикой, принимается на ура, у него против того нет шансов. В ГДР – в том виде, в каком он знает эту страну, – критиковать нечего; он полагал, что это бессмысленно. При университетах Федеративной Республики содержались целые штабы специалистов по литературе ГДР; очевидно, многим в ней виделась альтернатива литературе ФРГ, зашедшей, по мнению исследователей, в тупик. Да и в самой ГДР (при условии критического подхода, предписанного тамошними литераторами) можно увидеть политическую альтернативу ФРГ… Прогулки по миру этих понятий казались Ц. выхолощенной теорией; но возникало такое чувство, что этому доминирующему на рынке образу литературы ГДР и лет через сто противопоставить будет нечего. А на рынке он доминирует, это бесспорно…
Был случай, когда один восточногерманский издатель посетовал на отсутствие в Ц., что называется, «критической солидарности». Поразмыслив над этим словосочетанием, Ц. вынужден был признать, что и впрямь не в силах высечь в своей груди ни искры внутренней убежденности в какой бы то ни было солидарности с ГДР. Но маститые восточногерманские писатели выступали перед западной публикой именно с этих позиций. И даже сформировали этой своей критической солидарностью на западногерманском литературном рынке нечто вроде нового истеблишмента, став там бессменной модой. Даже если в ногах валяться у западного образованного сословия – без солидарности, мало-мальски критической, ему ничего не светит. Правда, и здесь давно уже произошел перелом: писателей ГДР высылали из страны, исключали из Союза писателей, выбивая тем самым почву из-под ног и отгоняя в сторону Запада. Поднялся чудовищный шум: эти меры нуждаются в пересмотре! – единодушно требовал и Восток, и Запад. Тоже, если угодно, проявление критической солидарности. Когда Ц. приехал на Запад, там все обожали приветствовать друг друга словами: «Здравствуй, милая!» – так называлась известная книга, вышедшая в ГДР… он к тому времени давно уже говорил: «Спи, постылая!»