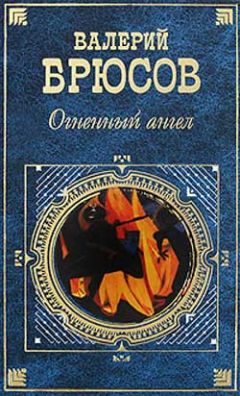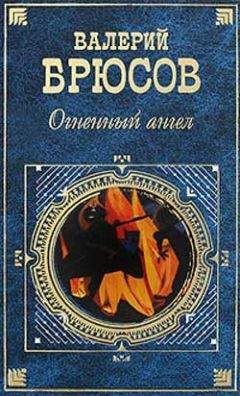Владимир Губайловский - Учитель цинизма
Стать бы настоящим бомжом, жить под забором. Бутылки собирать. Милостыню просить. Только бомжам водку не продают. То есть ее продают, конечно, но в магазин не пускают из-за запаха. Очень это горько. Вот стоят они у магазина и просят: купите бутылку, вот деньги, только купите, а то нас не пускают. А никто не покупает, все нос воротят. Но это тоже, наверно, можно преодолеть. Ты свободен. И не надо тебе почти ничего. Но главное – никому от тебя ничего не надо. Весь мир смотрит на тебя и только головой качает: «Да, это человек конченый. Оставим его в покое». Это покой и воля и есть, наверно.
Мы с бабушкой ходили огоньки собирать. Смотришь, а они по склону к речке бегут. Яркие, оранжевые на зеленой траве. А рядом березы, листва легкая, прозрачная. Бабушка собирает огоньки, но я больше люблю колокольчики. Огоньков много, а колокольчиков мало. Потом принесем домой, поставим в банку. Дома цветы сразу как-то поблекнут. Или сидим с мамой на сеновале – у нас ситный хлеб, свежий, хрустящий, и клубничное варенье, мы едим хлеб с вареньем, запиваем молоком. Мама мне читает польские сказки, а они все почти про шахтеров. Как они в забое работают, как они там чертей встречают и всяких подземных жителей. Эти жители подземные с ними шутки всякие страшные шутят. Ты лежишь на спине, сеном пахнет. Смотришь перед собой, а видишь не дощатую крышу, а этих шахтеров и как они со всякой нечистью разговаривают. И это счастье. И нельзя его повторить.
37 …Умная, образованная 37-летняя женщина-филолог спросила меня: «Что такое «чирик»? 5 рублей? Или 3?» Я ответил: «Чирик – это червонец, купюра достоинством 10 рублей». Она помнит, что «чирик» как-то связан с деньгами, но слово ушло и сегодня практически не употребляется.
Я говорю о вполне определенном времени и месте и совершенно не уверен, что сегодня легко представить, о чем идет речь.
Например: что такое автоматы с газированной водой? Или телефоны-автоматы? Что такое очереди? Как выглядели полукруглые витрины в кондитерском отделе магазина «Продукты» на улице Московской и какие в вазах стояли конфеты? Какой вкус был у тающего эскимо за 11 копеек, которое все время грозило сорваться с палочки и упасть в тротуарную пыль?
У Андрея Вознесенского есть такие строчки: «Мой кот, как радиоприемник, зеленым глазом ловит мир». У котов и сегодня зеленые глаза, как в 1961 году, когда появились эти строчки. А я помню, как выглядел «зеленый глаз» у радиоприемника. На панели загоралась круглая лампочка величиной с пятак: в центре лампочки было круглое затемнение, похожее на зрачок, а «радужка» светилась изумрудно-зеленым. От «зрачка» вниз в такт звуку радио подрагивал и подмигивал, расширялся и сужался темный сектор. Этот мигающий серо-зеленый индикатор действительно производил впечатление живого кошачьего глаза. Необыкновенно уютно лежать на полу на бабушкиных половиках рядом с радиоприемником, крутить ручку настройки и путешествовать по панели: Рига, Стокгольм, Лондон, Париж, Дели, Мельбурн… «Колючих радио лучи»: то музыка, то быстрая, резкая, лопочущая нерусская речь, то «Издалека долго течет река Волга»… Подступающий к самому лицу огромный океан – шелестящий, шумящий, цокающий и щелкающий радиоприбой, который тебя колеблет и укачивает, и тревожно слушать его, и хорошо. И вдруг жесткий звук, как будто бросают металлические листы, наверное, так закрывается «железный занавес». И дальше только жесткий шум.
Это было в стране, которая называлась СССР, где возникла «историческая общность – советский народ» и этот самый народ строил коммунистическое завтра. Но это для парадов и лозунгов, а на самом деле эту страну населяло население, о чем горько шутил Жванецкий: народ у нас замечательный, а вот население – вечно всем недовольно.
У Алексея Цветкова есть стихотворение «То не ветер», где он говорит о детях, которые всю жизнь болели, лежали в больнице и почти ничего не видели – ни степи, ни леса. Мальчик Коля хвастается, что, когда он был ходячий, видел жука и «лошадь, говорит, большая / как слон». Увидеть живого слона эти дети имели еще меньше шансов, чем жука или лошадь, а неизвестное невозможно объяснить, сравнив с неизвестным. Но дело в том, что видеть слона и не нужно – это символ самого большого существа на свете. Вот и СССР для сегодняшних молодых людей – а часто уже и не слишком молодых, тридцатилетних, – это такой умытый слон, нечто большое и чистое. И они совсем не представляют себе и не очень интересуются, как же там жили люди – это самое население. Образ этой страны сегодня складывается из тех ярких переводных картинок (а что такое «переводная картинка», кто сегодня помнит?), которые сохранили для нашего времени советские кинофильмы. Советская пропаганда одержала крупную победу. Она оказалась самым долговечным институтом СССР. Как и дети у Цветкова, которые видели слона только на картинке, сегодняшние молодые люди представляют себе СССР по кинофильмам – нечто доброе, красивое и очень-очень большое, то есть великое. И они хотят быть к этому великому причастными.
Надо ли их разочаровывать? Надо ли говорить о нищей стране, зашоренных людях, которые, как шахтовые лошади, шли по кругу и неизбежно слепли. Вряд ли, вздыхая о самом большом слоне, сегодня кто-то думает о беспаспортных колхозниках с пенсией 15 рублей; о пустых прилавках и бесконечных очередях; о тех временах, когда поездка за границу была сродни манне небесной, а возможности отправить детей учиться в Гарвард не имел даже генсек; когда реклама «Покупайте книги в книжных магазинах» выглядела как откровенное издевательство; когда попытка открыть рот и сказать, что ты думаешь о нерушимом блоке коммунистов и беспартийных, была уголовно наказуема по 70-й или по 190-й; когда родное государство обирало, грабило и убивало своих граждан во имя высоких идеалов, но зато у советского народа было чувство глубокого удовлетворения и уверенность в завтрашнем дне.
Человеку, никогда не стоявшему в очереди за молоком или хлебом, объяснить, что это такое, трудно. Еще труднее объяснить, почему это приходилось делать ежедневно. Но, может быть, и не нужно? Пусть мечтают о слоне. А я буду вспоминать о том, как в наш двор приходил точильщик с точильным камнем, работавшим от ножного привода. Я вижу, как: «Не сыпались искры, а сыпались, гасли. Был день расточителен; над школой свежей. Неслись облака, и точильщик был счастлив, что столько на свете у женщин ножей».
38 …Лето после второго курса у меня вышло совсем никудышное. Из общаги все разъехались, пришлось домой перебираться. А у меня в сессию два хвоста – по дифгему и по дифурам. Вообще на мехмате четвертая сессия очень трудная. Пятая, впрочем, не легче. Живу дома, отец смотрит волком. Я стараюсь ему на глаза не попадаться. На работу устроила меня мама. На завод железобетонный. Хожу на работу. Там люди работают, ну я тоже. Не умею ничего. Поставили меня желобки у форм вычищать. Бетонные конструкции как делают: берут железную форму, в нее кладут арматуру и бетоном заливают. Потом бетон остынет, форму откроют, балку краном зацепят, а вот в форме остается бетон в желобках. И его вычищать надо, чтобы форма плотно закрывалась. Дали мне молоток, палку стальную, вроде стамески. Работаю, выбиваю бетон из желобков. Тяжело. Ну да ничего. Потом меня на другой участок перевели – дырки в стенах долбить под водопроводные трубы в доме. Дом строился, а мы его, значит, долбили. Тут работы совсем никакой не было. Мужики придут, пару раз кувалдой саданут по стене – и перекур. Курим. Потом меня за плодово-выгодным посылают. Я иду. И так до вечера. Сидим, курим. И на другой день так же. Уволился я.
Стал к экзаменам готовиться. В сессию, когда все готовятся, как-то не особенно замечаешь, что занимаешься много. Но тут каникулы, а я сижу как проклятый и конспекты по дифгему листаю. И ненавижу и дифгем этот, и себя за то, что такой идиот. Каждую страницу приходится брать с боем. И главное, в голову ничего не идет. Смотрю на страницу, там что-то написано про тензоры. Вроде и не слишком все сложно, а голова работать отказывается. Думает о чем-то постороннем. Вот о том, что ребята в поход пошли на Алтай, а я никак пойти не мог. Сижу, смотрю на страницу, как баран: формулы расползаются в разные стороны, будто разные морские гады, индексы эти, верхние, нижние. Жуть одна. И спрашиваю себя: а зачем тебе математика эта? Толку от тебя математике – строгий ноль, а тебя от нее вообще тошнит. Ну выучишь пару формул и забудешь, как только сдашь. Ни уму ни сердцу. И представляются все эти занятия абсолютной бессмыслицей. А ты ведь уже на третьем курсе. Надо же что-то понять наконец, пора ведь. Говорю всякий вздор, уговариваю себя, уговариваю. Ничего не получается. Ничего не по-ни-ма-ю. Чуть не до слез. Вообще-то в математике бывает такое. Она ведь как пирамида: сначала вещи самые конкретные. Вот и Пуанкаре говорил, что невозможно научить человека складывать дроби, если не разрезать яблоко или пирог. Сложил правильно, потом съел. Иначе никак. А ведь начинает человек учиться с самой трудной абстракции – с понятия натурального числа. Что такое это самое натуральное число? Что такое две ложки – понятно, что такое два яблока – понятно. А что такое «два»? Вот просто «два», и все? А не знает никто. Так только, более-менее, с точностью до изоморфизма. Но вот что странно – понятно это. Всем понятно, даже самым тупым. Наверное, это и есть первичный опыт, самоочевидность. А потом человек учится, учится, переменные появляются – эти самые иксы-игреки. Их уже не всякий может осилить. Потому что икс – не просто число, а любое число. Как так любое? Непонятно. Потом множества, отображения, преобразования, пространства… Еще один шаг абстрагирования, потом еще и еще. Тензоры. Ну и мало кому хватает воображения их себе представить. Все, предел. Да и предел этот самый – limit: чтобы с ним работать, нужно себе бесконечность представлять, и хорошо представлять, как любимую кошку. И у меня тем летом случился вот такой ступор. Это я теперь знаю: если такое происходит, всегда нужно сделать шаг назад. И посмотреть, а как это все на самом деле выглядит. Схватить целиком, без конкретики. Представить себе. Тогда полегче пойдет. Нельзя в стенку упираться. А тогда – сижу, упираюсь, и все бесполезно. И мысли уже совсем черные. Значит, я просто идиот. Все ведь сдали этот дифгем. Даже девчонки сдали, а я вот не могу. Значит, я глупее самых глупых. Я эти страницы с конспектами до сих пор помню. Что там было написано, совсем не помню, а страницы помню. Вот я сижу, их переворачиваю, ворочаю, как железобетонные конструкции. И сил моих на это не хватает.