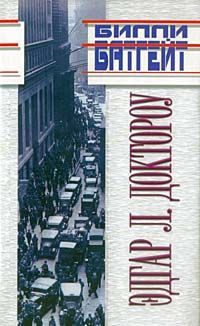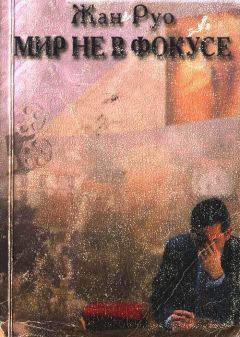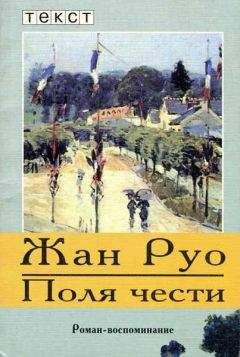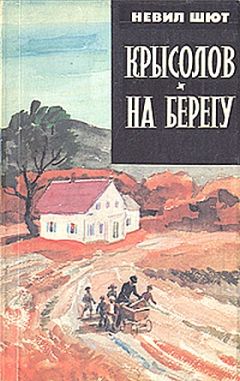Эдгар Доктороу - Билли Батгейт
В магазине И. Коэна прямо при вас могли сделать мелкие переделки и наставить манжеты на брюки, но мы сказали, что зайдем позднее, и поднялись по холму к Грэнд-Конкорсу. Я нашел магазин фирмы «Адлер» и купил пару новых черных кед с толстыми подошвами и черные ботинки с высокими, но почти незаметными каблуками, какие я видел на ногах Дикси Дейвиса, адвоката мистера Шульца. Все это уменьшило наши запасы еще на девять долларов. Новые кеды я надел на ноги, а ботинки нес в коробке, и мы пошли дальше по Фордэм-роуд, пока не встретили кафе Шрафта. В это время дня там пили чай все самые известные люди Бронкса. Мы присоединились к ним, заказали сандвичи с курятиной и салатом на хлебе без корочки, чай для матери и содовую с шоколадным мороженым для меня; все это официантки в черных униформах и белых кружевных передниках поставили на кружевные салфетки той же выделки, что и их передники. Мне нравилось проводить таким образом время с матерью. Мне хотелось, чтобы она немного развлеклась. Мне нравилось постукивание ресторанной посуды, суетливая важность официанток, снующих со своими подносами, послеобеденное солнце, бросающее сквозь окно лучи света на красный ковер. Мне нравился вентилятор, медленно, под стать достоинству посетителей, вращающий свои большие лопасти под потолком. Я сказал матери, что у меня достаточно денег, чтобы и для нее купить новую одежду и новые удобные туфли, нам надо просто пройти пару минут до главного перекрестка Бронкса, который образуют Фордэм-роуд и Грэнд-Конкорс, где расположен универмаг Александра, и все. Но она вдруг заинтересовалась бумажным кружевом салфетки и, закрыв глаза, стала водить по рисунку пальцем, будто читала азбуку Брайля. И потом сказала какие-то слова, я их плохо расслышал, но побоялся переспросить. «Надеюсь, он понимает, что делает», — вот что, по-моему, она произнесла. Голос был немного чужой, словно за столом сидел еще кто-то третий. Я не знал, то ли она сказала это для себя, то ли прочитала на кружеве салфетки.
Но все-таки тем же вечером я положил ей в кошелек сорок долларов, после чего у меня осталось чуть больше двадцати пяти. Я обнаружил, что начинаю привыкать к большим суммам и обращаюсь с ними так, будто вырос в достатке. К деньгам человек привыкает очень быстро, очарование их тускнеет, они становятся вполне обычными. И все же двенадцать долларов в неделю, которые мать зарабатывала в прачечной, оставались волшебными в моем воображении, иначе говоря, ценными в прежнем смысле, а вот новые заработки из-за моей расточительности — нет. Именно об этом говорил Аббадабба Берман. Я надеялся, что доллары, которые я вложил ей в кошелек, приобретут свойства долларов ее зарплаты. Вся наша округа заметила, что у меня появились деньги. Я покупал сигареты «Уингс» пачками, и не только сам курил не переставая, но и охотно угощал других. В ломбарде на Третьей авеню, куда я пошел за очками, висел двусторонний атласный клубный пиджак черного цвета, но стоило его вывернуть наизнанку, и он становился белым, я купил его и по вечерам с важным видом прогуливался в нем. Клуб назывался «Шэдоуз», в нашем районе такой команды я не знал, название было вышито смешными белыми буквами на черной стороне и черными — на белой. И мой пиджак, и сигареты, и новые кеды, и, наверное, мои новые манеры, которые я мог не замечать, но которые наверняка замечали другие, — все это выставляло меня в совершенно ином свете, причем не только среди детей, но и среди взрослых; необычно было мое положение: с одной стороны, мне хотелось, чтобы люди знали то, о чем они и сами догадывались — а как иначе сопляк может получить бешеные деньги? — а с другой, мне не хотелось, чтобы они знали; хотелось остаться прежним мальчишкой с изменчивыми детскими мыслями, с репутацией необузданного сына сумасшедшей женщины, подающего надежды на то, что в нем еще обнаружится скрытая честь, и с ее помощью проницательный учитель или какой другой Божий промысл обратит мой ум на благо будущей жизни, и все в Бронксе смогут гордиться мною. Я хочу сказать, что для проницательного взрослого, для незнакомого человека, который мог невзначай заметить меня, оказаться соседом, увидеть в кондитерской или на школьном дворе, я мог явиться одной из ипостасей искупления; быстрота моих движений, уверенность неосознанных жестов, замеченная в игре, могли на мгновение возродить в нем надежду — совсем не связанную с ним самим, — что всегда есть шанс и что, как бы плохо ни шли дела, Америка — это страна-жонглер, и мы все как-нибудь сможем продержаться в воздухе, причем летая не из руки в руку, но от света к тьме, от ночи к дню, ведь мы, в конце концов, живем в Божьем мире.
Но хотел я того или не хотел, изменения произошли значительные, в такой ситуации начинаешь чувствовать себя по-особому, на улице замечаешь много мелких подтверждений нового к себе отношения, словно ты поступил в духовную семинарию или еще куда, и у людей меняется взгляд; одни смотрят на тебя так, что, мол, больше не желают иметь с тобой ничего общего, а другие, наоборот, — смотрят серьезно и внимательно; все зависит от их собственных представлений о религии, а может, и политике, но в любом случае они, глядя на тебя, пытаются определить, какого зла от тебя ожидать или какой пользы, и отныне и навсегда ты уже занимаешь другое место в системе.
В то же время никто не знал, ни с кем я, ни где работаю, — все это было вторичным по отношению к фантастическому изменению моего статуса; я, конечно, не имею в виду тех, кто сам участвовал в деле и кто из принципа ни за что не обнаружил бы свой интерес к моей персоне, потому что, во-первых, такое выплывает со временем само собой, и, во-вторых, для профессионала я по-прежнему оставался сопляком. Я говорю о слаборазличимом настроении моей улицы, которое уловимо было разве что в летнем воздухе; кроме того, обдумывая свое новое положение, я никогда не питал иллюзий, будто кто-либо понимал истинный масштаб случившегося со мной, догадывался, что я в центре событий, о которых пишут газеты, и спрятан в них, как лиса среди листьев дерева на известном рисунке-загадке, только я был не на дереве, а в сердцевине самых важных новостей нашего времени.
Однажды вечером я сидел на крыльце сиротского приюта в белом варианте своего клубного пиджака с Ребеккой Чаровницей и Арнольдом Помойкой, младших ребят уже загнали внутрь; наступило то время летнего вечера, когда небо еще слабо синеет, а на улице уже стоит темень хоть глаз выколи, из каждого открытого окна неслись звуки радио или споров, из-за угла выехала бело-зеленая патрульная машина местного полицейского участка и, поравнявшись с нами, остановилась у тротуара с работающим мотором; я смотрел на полицейского в машине, а он снизу вверх на меня; оценка была быстрой и точной, и мне почудилось, что все вокруг неожиданно стихло, хотя это, конечно, было не так; я чувствовал, как в последнем свете, падающем с неба, горит мой белый пиджак; я чувствовал, как меня поднимает этим светом и полицейскую машину тоже; казалось, она уплывала прочь, и темно-зеленый низ и верхняя белая половина, висящая над шинами, и тут голова в окошке отвернулась и сказала что-то другому полицейскому, водителю, которого я не видел, и они рассмеялись; с неожиданностью выстрела зажглись фары, они уехали.
В этот миг странных летних сумерек я и ощутил ту первую ярость, о которой говорил мистер Шульц, она снизошла на меня как откровение, как дар. Я почувствовал дерзкую ярость преступника, я узнал ее, хотя она и пришла ко мне, когда я умиротворенно сидел с другими полудетьми на ступеньках дома Макса и Доры Даймонд. Ясно, то, чего я хотел и чего одновременно боялся, произошло, та особая навязчивая детская мечта сбылась, я, несомненно, стал другим человеком. Я злился, потому что все еще думал, будто не дерьмовые полицейские, а я сам должен решать, кем мне быть. Я злился, потому что все в этом мире закономерно. Я злился, потому что мистер Берман послал меня домой с деньгами, только чтобы показать мне, чего стоят деньги, а я этого не понял.
Теперь я вспомнил; он сказал, чтобы я не дергался и ждал; когда я потребуюсь, меня позовут. Я стоял у подножия лестницы, ведущей к надземке. Я ведь не слышал его, почему мы не слышим того, что нам говорят? Минуту спустя я поднялся по ступеням и опустил пятицентовик в щель толстого увеличительного стекла; оно осветилось, и я увидел, как огромен американский бизон.
Итак, тем вечером я сделал то, чего никогда не делал раньше, — я устроил вечеринку. Это казалось мне по-настоящему дерзким поступком. Я нашел бар на Третьей авеню, где за приемлемую цену продавали пиво несовершеннолетним, купил небольшой бочонок и взял напрокат все полагающиеся приспособления для разлива, а Помойка привез все это, прикрыв тряпкой, в своей коляске, которую мы спустили со стуком в его подвал, где я и устроил вечеринку. Много усилий потребовалось, чтобы откопать в этом складе дерьма что-то похожее на пару диванов и расчистить место для танцев. С другой стороны, именно Помойка снабдил нас высокими пыльными стаканами, из которых мы пили пиво, старым патефоном фирмы «Виктор» с трубой, загнутой, как морская раковина, пачкой стальных игл и коробкой пластинок негритянской музыки, под которые мы танцевали. Я пообещал ему заплатить за прокат всего, что он дал. В ту ночь я хотел платить всем за все, даже Богу — за воздух, которым дышал. Вечеринку я устроил для неисправимых воспитанников приюта Макса и Доры Даймонд, когда уснули все дежурные по этажам и наблюдающий инспектор. Собралось нас человек десять-двенадцать, включая и мою подругу Ребекку, которая, как и некоторые другие девушки, пришла в ночной рубашке, правда, при этом она надела сережки и слегка подкрасила губы. Губы накрасили все девушки, причем помадой одного цвета и, очевидно, из одного тюбика. Мы очень гордились своим пивом, которое, судя по привкусу мочи, привезли, скорее всего, со складов мистера Шульца, так как именно пиво придавало нашей вечеринке некую взрослую испорченность. Кто-то пробрался на кухню приюта и вернулся оттуда с тремя колбасами салями и несколькими батонами белого хлеба в вощеной бумаге; Помойка поковырялся в одной из своих коробок и нашел кухонный нож и сломанный кофейный столик; мы приготовили бутерброды, налили в стаканы пиво, для желающих у меня были сигареты, и в сухом и пепельном воздухе подвала, сдобренном угольной пылью, светившейся в желтом свете старой напольной лампы, мы курили сигареты «Уингс», пили наше беспечное пиво, ели, танцевали под старые негритянские голоса двадцатых годов, поющие свои медленные песни, в которых две строки о любви разрешались одной строкой горечи и в которых говорилось о поросячьих ножках, булочках с джемом, гонках на двуколках, о папах, которые изменили, и о мамах, которые изменили, о людях, которые ждали уже ушедшие поезда, и хотя никто из нас танцевать не умел, если не считать танцев в кружочек, которым учили наверху, сама музыка вела нас. Помойка разместился у патефона, он заводил его, вынимал пластинку из черного конверта и ставил ее на диск, он сидел, скрестив ноги, на столе, подложив под себя подушку, сам не танцевал, ни с кем не говорил, но своим бесстрастным вниманием ко всему происходящему проявлял наивысшую для себя общительность. Он не пил, не курил, а только ел и самозабвенно скармливал нам скрипучую музыку — корнеты и кларнеты, тубы, фортепиано и барабаны грустной страсти; девушки танцевали друг с другом, а затем втянули в танцы и мальчиков, и это была очень торжественная вечеринка, белые ребята из Бронкса жались друг к другу под сладкую черную музыку, исполненные намерений жить по-человечески в сиротском приюте. Но постепенно все изменилось — девушки нашли залежи одежды в больших коробках Арнольда Помойки, и он, похоже, не возражал, так что поверх ночных рубашек они надевали на себя то и это, выбирая и примеряя шляпы, платья и туфли на высоких каблуках, что носили в прежние времена, пока каждая не осталась довольна собой; моя маленькая Ребекка оделась в черное кружевное платье испанского типа, доходившее ей до щиколоток, и тонкую розовую шаль с большими петлеобразными дырами, но продолжала танцевать со мной босиком; а некоторые мальчишки нашли пиджаки с широкими плечами, остроносые замшевые туфли и широкие галстуки, которые они повязали на голые шеи, и мало-помалу в дыму, под джазовые мелодии, мы превратились в тех, кем хотели быть, мы танцевали в пыли наших будущих Эмбасси-клубов, в нарядах стыдливой детской любви и постепенно понимали — а это выпадает на долю только самых везучих, — что Бог наставляет не только разум, но и вихляющие в ритм бедра.