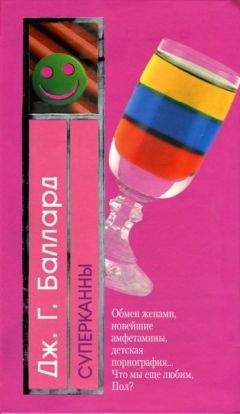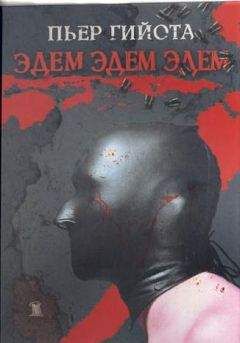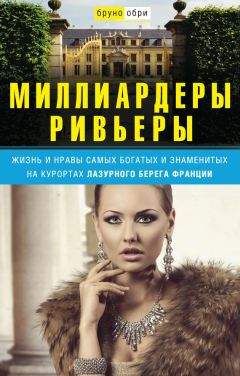Владимир Соколовский - Антология современной уральской прозы
Он заходит за ней в семь, они сначала идут в магазин — хлеб, чай, молоко, потом, уже на трамвае, до того самого железнодорожного полотна, того самого моста-места. Сегодня она его не приглашает, просто само собой разумеется, что он зайдет выпить с морозца чайку, а то стоит ли, так промерзнув, сразу возвращаться обратно? Вот и дверь, обитая чёрным дерматином, первый этаж, как войдешь в подъезд — налево, столько лет прошло, а стоит закрыть глаза, так будто снова в этом подъезде, как уже потом, когда стоишь часами, надеясь что-то вернуть, ухватить за хвост, поймать за узду, обратить вспять, но часы идут, тик-так, тик-так, проходят соседи, со второго этажа, с третьего, это, видимо, с четвёртого, вот с этой же площадки, а вот и с пятого, чего стоишь, мальчик, кого ждешь? И выбегаешь из подъезда, затаиваешься неподалёку и вновь возвращаешься через полчаса, пока не понимаешь, что и сегодня она не придёт, но потом, потом, всё это потом, а потом суп с котом, коты же бывают разные, бывают даже рыжие и красные, а дверь всё так же обита чёрным дерматином, квартира с соседями, её комната — поменьше, раньше-то она жила не здесь, у них с мужем была квартира, но ещё в процессе развода (движется процессия к залу суда, вам туда, а нам сюда) они её разменяли, мужу — однокомнатную, ей — комнату, ему нужнее, он скоро женится, ну да чёрт с ним, с мужем, соседка одна, старушонка такая согбенная, её почти и не видно, проходи в комнату, сейчас чай принесу.
(Тут следует, наверное, описать комнату. Если делать это по часовой стрелке, то: большая кровать, у окна стол, туалетная тумбочка, секретер, старенькая радиола, книжный стеллаж, какая-то акварелька на стене.
Несколько стульев. Напольная ваза с засохшими ветками. Из-з-зящ-щ-щно, — прохрипел ободранный попугай. Можно пустить стрелку обратно, хотя известно, что от перемены мест слагаемых. — Да, правильно: сумма не изменяется!)
Она вносит поднос с чайником, чайничком, чашками-блюдцами-тарелочками-блюдечками да плюс чайными ложечками. Такую кучу всего приволокла, нет, чтобы попросить помочь. — Будь как дома. — Звон ложки о чашку. — Ты не куришь? — Молчаливый моток головой. — Я покурю, ладно? — Длинный мундштук, а в нем маленькая сигаретка без фильтра.
— Хороший чай получился? — Залазит на кровать, сворачивается в клубочек, мурлыкает, пускает дымок, так и хочется за ушком почесать. — Что молчишь-то всё? — А что тут скажешь? Вот и молчит.
(Всю обратную дорогу: намаялись, накупались, наплавались. Тело расслаблено, вот только голова какая-то чугунная, перенырял, что ли? Тьма глухая, лишь луч фар шарит по дороге. Марина с Машкой на заднем сиденье похрапывают, счастливые, Саша же ведет легко, при этом чуть насвистывая, ас, настоящий ас Александр Борисович, как руль-то у него в руках покоится — легко, будто нимб небесный.) — Слушай, молчун, пошли в выходные на лыжах кататься? — Сердце замирает и падает, ещё одна игла, спица, заноза, под ту же лопатку, дыхание перехватывает от боли, а выходные — это когда? — Сегодня четверг, дурачок.
— Что же, давай в воскресенье, — и он начинает собираться, окутывает себя шарфом, нахлобучивает шапку, запаковывает тело в пальто (так себе пальтецо-то, на рыбьем меху) и идёт к дверям.
— Подожди, — говорит она ему, поправляет шарф, а потом вдруг быстро, как бы клюнув, целует в щеку: — Спокойной ночи!
— Приехали, — говорит Саша, — просыпайтесь, девки, надо машину в гараж ставить.
— Спасибо, ребята, — и он идёт к себе в малуху, падает на кровать и суёт под неё руку в поисках револьвера.
4В воскресенье хозяйка разбудила его рано, около семи. Он вышел на улицу, поёжился, помахал руками (как бы стараясь согреться) и, шурша старым номером «Крымской правды», отправился в туалет (этакий каменный особнячок в самом конце двора). Саша уже выгнал машину, сонная Машка лениво пила чай, Марина что-то делала в хозяйской квартире. Перечисление, начало сюжета дня, день-тень, тень-сень, всё тот же пересвист в кустах за домом, надо ещё успеть в душ да чашку чая, голова лёгкая, небо безоблачное, вчера — что вчера, мало ли «вчера» уже было в твоей жизни, было и прошло, забылось, как забудется и это, день-тень, тень-сень, незамысловатый теневой орнамент на клеёнке, внезапно покрывшей когда-то чёрный, а ныне буро-коричневый круглый столик. Александр Борисович, а, Александр Борисович, скоро? Скоро, милые, скоро, хотя совсем не так и безо всяких «милых», но машина уже готова, мотор поуркивает, Марина в одном купальнике — только ленточки на этот раз красные (две узенькие красные ленточки), Машка в шортах и майке, лёгкий набросок цветными карандашами, а ещё лучше — мелками на асфальте, детский примитив, наивное искусство, Пиросмани и бабушка Мозес, две косички, бантик, ещё бантик, желтые шортики, белая с красным маечка, полные, округлые, предлолитные коленки в цыпках и ссадинах. Марина же вальяжна, женщина в теле, аппетитная женщина в аппетитном теле, странная аура, с ней хорошо сидеть рядом, ощущаешь тепло и радость, исходящие от этой пышной плоти. Саша, наверное, зарывается в неё с восторгом, но сегодня Марина рядом с Машкой, он с Сашкой, хозяйка машет рукой, что, поехали? — Поехали, милые, поехали!
Солнце ещё чуть взошло над горизонтом, ехать около часа, туда, к Севастополю, затем свернуть, вообще-то там запретная зона, но у Марины родственники, пропуск заказан, машину есть где оставить, а сами — пешочком и вниз, в уютную безымянную бухту, мало кто знает, что ещё есть такие. Александр Борисович ведет машину в полном упоении, дорога так и стелется под колеса, женский пол на заднем сиденье посапывает — рано, не выспались, а он смотрит в окно: слева море, справа — горы, склоны поросли невзрачными кустиками испанского дрока, такие высокие зелёненькие кустики с маленькими жёлтенькими цветочками, колкие, если взять их в руки, колкие и ядовитые, а выше начинаются сосны, те самые, крымские, реликтовые, едешь и вертишь головой, слева море, справа горы, снизу земля, вверху небо, дорога плавно стелется под колеса, милейший Александр Борисович, чудеснейший Ал. Бор. что-то насвистывает, то ли «Хава нагила», то ли «На реках Вавилона», но что он-то сам понимает в чужом фольклоре? Вчера вечером, когда Машку уложили спать, а они втроем пошли прогуляться вниз, до самой набережной, Саша сказал ему, что совсем скоро они должны получить визы, и тогда всё, адье, мадам и мусью, пусть эта страна катится к чертям, в ней слишком душно, не будем о политике, попросил он, у меня начинает болеть голова, когда говорят о политике. Не будем, согласился Александр Борисович, Марина же молчала и только шла рядышком, зябко (странно, если бы не возникло это слово) кутаясь в его (ни разрядки, ни курсива) куртку — вечер, с моря тянет прохладой, хотя и июль.
— Ну и куда? — спросил он, когда они подошли к причалам. — В Бостон, там родственники, хотя хочется в Австралию, ой как хочется в Австралию.
— Всем хочется в Австралию, — буркнул он. — А в чём дело? — Кому я там нужен.
Марина засмеялась, они с Александром Борисовичем переглянулись и почувствовали, как что-то крепкое, мощное, мужское тесно соединяет их в этой мистической близости от пустых ночных причалов — ни корабля, ни кораблика, ни самого захудалого пароходика, а ведь мог бы стоять сейчас большой и многопалубный, под редким, экзотическим, к примеру, австралийским флагом, поднялся по трапу, предъявил стюарду билет, и всё — адьё, мадам и мусью. Нет, вы правы, Александр Борисович, вы правы, что делаете это, если, конечно, уверены, что там кому-то нужны. Вы уедете в Бостон, получите со временем «Грин-карт», а потом махнёте в Австралию, поселитесь где-нибудь в районе Брисбена и много лет спустя, когда все мы (если даст Господь) будем старыми и слезливыми, вспомните этот вечер, спуститесь со своей, к тому времени совсем уж располневшей и ставшей необъятно-бесформенной (а может, наоборот, по-западному мосластой и сухопарой) женой к самому Тихому океану и спросите друг друга: где он, что стало с ним? А потом вернетесь в коттедж (дом, виллу, шале), нальёте по стаканчику чего-нибудь крепкого, но со льдом и выпьете за здоровье давнего случайного знакомого, а потом взгрустнёте без слёз, в тени эвкалиптов, вспоминая берёзки, хотя всё это не более чем просто досужее конструирование вымышленной ситуации.
— Скоро приедем, — сказал Саша и ещё поддал газу. — Не жалеешь, что Томку с собой не взяли?
(А может, и вправду надо было взять Томчика с собой? И чего это он ещё тогда, в самые первые дни, решил отказаться от того, что само шло в руки? Вкусно похрустывающий на зубах огурчик, персик, в который приятно вонзать свои плохие, жёлтые, прокуренные зубы. А ведь вчера, на набережной, они снова встретились, как раз когда пошли от причалов обратно, тему, само собой, пришлось сменить, так, шли, хохмили, заигрывали друг с другом, от Томки шло тепло, да и желание он чувствовал — идет рядом и хочет, но вот это-то сразу и обломало ему всё, нет, заноза, игла, спица в сердце, револьвер, так всё ещё и не найденный под кроватью, да и потом — давши слово, держись! Ведь уговаривались, что будет их трое, не считая Машки, странная аура, не возникший — хотя кто его знает? — треугольник, по крайней мере, всё неясно, неотчетливо и непонятно, а будь рядом Томчик — что же, гуд бай и в койку. Так и расстались они неподалёку от её дома, вкусный пупырчатый огурчик, истекающий спелостью персик, слива, упавшая прямо в гамак, в котором ты проводишь послеобеденный отдых. Так что нечего жалеть, что Томчика с собой не взяли, ведь верно, Марина?)