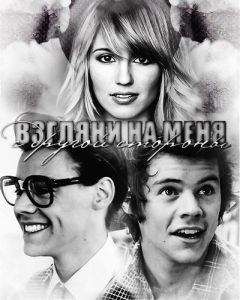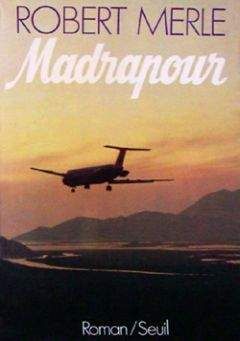Борис Черных - Есаулов сад
Бортников виновато смотрит на Ульянцева, тот отворачивается, и Бортников убегает в раздевалку. Сейчас он будет курить.
Входит чернявый мальчик вместо Бортникова.
Мальчик делает неудачный проход.
– Не давай ему мячей, – громко шипит Ульянцев, надбровья у него делаются белыми от напряжения. Но кто-то дает мальчику все-таки мяч, и тот удачно прорывается к щиту.
– Сорок первый, – бесстрастно повторяют судьи номер мальчика, что забросил мяч. Снова ничейный счет.
И Вазур не выдержал – он берет минутный перерыв. Он просит судей удалить орущих парней и девчат из зала. Шум мешает игре.
Вазур сорвался. Предлагает он утопичное.
И люди, что стояли в углах и наверху в проеме стены и что сидели на скамейках, понимают, что Вазур не выдержал. Вазур боится.
Визг и гам усиливаются.
Ульянцев в падении перехватывает нервные пасы физиков, успевая встать на ноги. Его опекают два человека, иногда три игрока пытаются блокировать, но безуспешно.
Тогда с ним поступают грубо, захватывают руки, толкают в спину.
Он становится у черты – судьи наказывают грубиянов.
В эти секунды можно рассмотреть, как мертвеет его лицо и руки судорожно спокойны.
У него определенно тело бойца, сухое и крепкое. Наверное, в роду у них нет слабых. Я смотрю на него и чувствую, что от этого человека исходят теплые лучи бодрости, здоровья, ощущения ясности и силы.
Он бросает двумя руками. Некрасиво. Слишком просто, но точно.
Но внутри у меня начинает дрожать: он почему-то совершенно не делает промахов. Я оглядываюсь на Кольку. Если бы он был верующим, я бы думал, что он молится. В себя.
Я пожимаю ему плечо и пропускаю момент – только вижу лежащего обессиленного Вазура и быструю тень, что распрямилась и бросилась к щиту.
Почему в зале молчат? Я смотрю наверх. Потом на Вазура. О, болельщикам жалко Вазура.
Я тоже должен жалеть его, но я не могу жалеть. Я уже смотрю на Ульянцева. Мне страшно, что он не делает промахов.
В эти минуты я думаю – он будет долго жить, этот русский парень – Ульянцев.
А что потом? – спрашиваю я себя.
А потом он снова будет жить. Его невозможно представить даже больным…
Зал молчит. Всем жалко Вазура.
\\
Колька заненастил. Я знаю – теперь он будет любить Ульянцева. Он уже влюбился в него по уши, он уже ничего не может поделать с собой.
Так любил Уитмен извозчиков, грузчиков, солдат, старых женщин – всех небольных духом людей…
Мы с полчаса еще вертимся в раздевалке около Ульянцева, но Колька боится, что он поймет, что Колька боготворит его, Ульянцева, и мы уходим…
На дворе уже март. Темень. Я вспоминаю, как Эренбург вспоминал стихи безвестного поэта: «Рыбий жир ленинградских речных фонарей…»[2]
Фонари еще горят. Мы идем ощупью, боимся упасть.
Иркутск, 1961
Эрька Журо или Случай из моей жизни
На «Камчатке» Лина Висковская говорит о мужчинах:
– Самый последний, девочки, случай вчера… Я только из подъезда, а навстречу он: «Вы Несмеяна»… Девочки, он третий день меня преследует!
Цепь катастроф сопровождает поклонников Лины. Девочки завидуют ее легкомыслию, они не догадываются о печали, снедающей подругу. Лину постигла неудача с Эрькой Журо. Уж так устроен мир – он будет весь у твоих ног, но одноклассник по имени Эрик Журо не удостаивает тебя вниманием – и жизнь рушится, летит в тартарары. Висковская вот так иногда – закрыв ладошками уши – слушает печальную музыку внутри себя и хочет навзрыд плакать. Она удивляется, как без любви – в полуобмане живут взрослые, и жалеет взрослых.
Недавно Лину пересадили к Эрьке Журо, на четвертую парту. Она расчитывала на это, но озноб потряс ее сильное тело – что-то холодное прочитывалось в Эрькиных раскосых глазах.
Вот и сейчас, интригуя девчонок фантастическим рассказом, Лина видела упрямый подбородок Эрьки, узкие плечи и ускользающий взгляд, и мысль о грядущем одиночестве саданула ее. Побледнев, она молча прошла к своей парте и села.
Когда она очнулась, у доски уже стояла Валентина. Валентина грациозно вывела на доске мелом:
«Случай из моей жизни»
Верзила Галактионов шумно вздохнул. На перемене, до одури накурившись, Галактионов сладострастно выкручивает руки малышам, дело привычное; а тут – случай из моей жизни!… У Галактионова никогда никаких случаев и в помине не было.
Валентина вполоборота повернулась к классу и рассмеялась: мятущееся лицо Галактионова рассмешило ее. А Лине захотелось нижайше просить Валентину отменить, запретить, закрыть опасную тему. Да ведь не отменит.
Через три часа, порвав промокашку, Висковская вытерла вспотевшие пальцы и потянулась к Эрькиному сочинению, но ее остановил его взгляд.
– Ты никому не скажешь, Линка? Побожись!
– Что ты! Что ты! Похоронила, – она прижала большую руку к тому месту, где под черным фартуком устало и гулко билось ее сердце.
«Случай из моей жизни», – написал Эрька на первой странице и начал сразу, без плана. Лина длинным ногтем поставила галочку и стала читать, застывая, хотя солнце слепило комнату.
* * *Вы просите, Валентина Юрьевна, описать случай из жизни. Но такие штуки не делаются смаху. Поэтому на следующий год, если Вы решите дать такое же сочинение десятиклассникам, обязательно предупредите их пораньше. Что же касается меня, то я решился.
Это случилось давным-давно, позапрошлым летом. В тот год к отцу снизошла доброта, он постучался рано утром в мою комнату, я проснулся. Он пристально посмотрел на меня и изрек:
– Счастье в чем? Счастье в труде! – и процитировал:
– Вырастет из сына свин, если сын свиненок…
Так меня наконец-то устроили юнгой на «Чубаря». Буксирный пароходик «Чубарь», напружинившись как гончая, таскал вверх по Умаре плоты, старые баржи, груженые соляркой и бензином, перевозил продовольствие. Работы хватало, приходилось в дождь, в непогоду бегать на пристанях за пивом для капитана и Иннокентьевича, боцмана. Я пыхтел от злости, но скоро полюбил нехитрые обязанности. К ночи с великим удовольствием забирался в каюту, открывал иллюминатор и, слушая всхлипы парового двигателя, быстро засыпал.
На «Чубаре» мне снились цветные сны. Снился дом наш под черепичной крышей, черный дым из красной трубы (мы топили углем), рыжий заплот; снилась – в ситцевом платье – мама…
Признаюсь, у нас была нелепая семья – самая нелепая во всем Урийске. Отец, начальник горкомхоза, всегда по-государственному озабоченный, читающий на память Маяковского: «И жизнь хороша, и жить хорошо. А в нашей буче, боевой, кипучей… «Ну, дальше знаете. Вы же литератор.
Мама кроткая и скучная, ласкала меня и моих сестер, штопала и самоварничала, пела песни. Песни раздражали отца, да и мне не нравились – было в них уездное занудство.
Сегодняшний день воскресенье
Но милый ко мне не пришел.
Наверно, он любит другую,
Наверно, другую нашел.
Отец закрывал дверь в свой кабинет, как только слышал эту песню. А мать пела и дальше, сейчас, сейчас припомню. А, вот эти слова, наводившие тоску, бередившие во мне странные струны.
Не шейте мне белое платье,
Оно мне совсем не к лицу.
А шейте мне черное платье,
Я с милым не выйду к венцу.
Отец слушает, притаясь, терпит, потом выпрыгнет на кухню и, вскинув руку, прочтет:
Когда ж от смерти не спасет таблетка,
То тем свободней время поспешит
В ту даль, куда вторая пятилетка
Протягивает тезисы души…
Мать замолкала, но когда отец уезжал в командировку, снова пела странные песни. Однажды, дождавшись отца (он ездил в Айканов), мать выпрямилась, словно помолодела, сказала прямо при мне:
– Не верю я вам, Юрий Иванович.
На Вы к мужу, отцу моему.
Отец покраснел, будто его застали врасплох за постыдным делом, и, запинаясь, ответил:
– С мещанкой жить не могу, понимаете ли, и не буду. Не для того мы строим светлый храм, чтобы такие, как Вы, – язвительно, тоже на Вы, к жене, матери моей, – такие, как Вы, правили в нем.
Мать раскрепощенно, раскинув руки словно птица, рассмеялась:
– А чтоб правили в нем твои любовницы! Ах, какой это будет светлый храм, глаза слепит.
И они расстались. У взрослых, оказывается, все просто. Мы переживаем, пишем исповеди (а за окном что делается – настоящая пурга, бедный Урийск совсем погрузился в зимний сон. Впрочем, есть обитаемый остров – школа), а взрослые расходятся внезапно и навсегда.
Мама и сестры уехали к родне в Сваринск, я провожал их теплоходом. Нам дали трёхместную каюту, но все десять часов мы провели на верхней палубе, сестренки беспричинно хохотали, возился с ними и я. Мимо проплывали берега в дубняке, пахло свежей рыбой и дымом деревень.
Прощаясь, мама обняла меня:
– Только об одном прошу тебя, Эрик, живи как бог на душу положит. Не придумывай хрустальные дворцы, в хрустальных дворцах тяжело дышать.