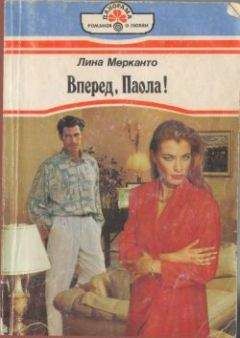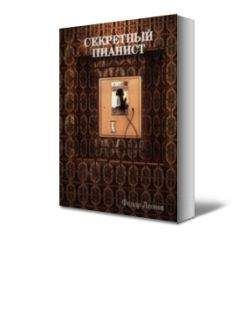Паола Каприоло - Немой пианист
Между тем пациенту действительно стало лучше, она готова была побиться об заклад. Юноша уже не прижимался к стене каждый раз, когда открывалась дверь, и больше не вздрагивал от чужого прикосновения. Скоро — может быть, даже завтра — он совсем поправится, и вылечит его именно она, и она же защитит его от дальнейших потрясений. Ну а что касается «Красного льва», поклялась себе Надин, то туда она теперь ни ногой: ее ждет заслуженная, неизбежная опала, хотя ясно, что никто из тех людей не заметит ее отсутствия — на этот счет у нее не было никаких иллюзий. Да, даже не заметят, подумала Надин и, почувствовав горькую обиду, унижение, вытащила из кармана носовой платок в цветочек, украдкой утерла слезы, а потом одарила юношу улыбкой, которая, как ей казалось, помогала ему выздороветь. К тому же она где-то читала, что, как бы плохо ни шли дела, важно все время улыбаться, и в последние несколько часов прилежно следовала этому ценному совету, пусть пациент видит — ее лицо светится радостью. «Все хорошо», — повторяла она напевным, убаюкивающим голосом: в действенности этого волшебного заклинания не приходилось сомневаться, оно непременно должно быть в арсенале медсестры. Словом, она изо всех сил старалась исправить свою ошибку и продолжала дежурить у постели пациента, пока наконец сон и усталость не сморили ее.
Когда за окнами, забранными решеткой, стали сгущаться сумерки, она раздобыла себе журнал, кока-колу и плитку шоколада и решила снова до самого рассвета не отходить от юноши. В шесть на пороге комнаты появилась дежурная медсестра, и Надин вежливо, но решительно отказалась от ее помощи: нет, спасибо, не стоит беспокоиться, сменять ее не нужно; она совсем не голодна и спать тоже не хочет, напротив, чувствует себя свежей и отдохнувшей, словно только что встала с кровати, так что, если коллега позволит, она сама продолжит заботиться о своем пациенте, это будет весьма разумно, учитывая доверительные отношения, которые сложились между ними.
Вероятно, в иных обстоятельствах медсестра охотно приняла бы такое предложение, ведь у нее и без того хватало забот. Однако сейчас, поспешила она объяснить, это было совершенно невозможно, поскольку главный врач вызывает Надин к себе в кабинет в половине седьмого. Побеседовать, добавила она. Он попросил ее передать это Надин, а самой ей велено остаться возле пациента до конца дежурства.
«Побеседовать?» — повторила Надин упавшим голосом, нехотя уступая стул у изголовья кровати. После всего случившегося известие, что начальство вызывает ее для разговора, не сулило ничего хорошего, и медсестра тоже, видимо, так полагала, судя по ухмылке, скользнувшей по ее лицу, когда она с важным, степенным видом усаживалась возле пациента, готовая исполнять вверенные ей обязанности. Уже пять минут седьмого, заметила она, так что Надин лучше поторопиться, если она хочет привести себя в порядок перед встречей с главным врачом.
Надин кивнула и направилась к двери. У порога она обернулась и с тоской посмотрела на своего пациента.
~~~
Что поделать, дружище, мне ничего не оставалось, как принять это непростое решение, а между тем, кажется, сам воздух сейчас напоен благодатью, ведь все мы собираемся праздновать — всерьез или понарошку — рождение Того, кто искупил людские грехи. К сожалению, я не могу позволить себе отпускать грехи, и, поверь, мне было крайне неприятно поступать так с девушкой. Если бы ты только видел ее у меня в кабинете — присела на самый краешек стула, пушистые черные косички аккуратно заплетены, судя по всему, она готовилась к нашей встрече; в глазах смирение и испуг, точно у агнца, которого ведут на заклание, — вот тогда ты бы, наверное, понял, каких усилий мне стоило говорить с ней так, как я говорил, но другого выхода не было.
Начал я примерно такими словами: не знаю, что произошло вчера вечером, и не хочу даже предполагать, что вы пренебрегли своими профессиональными обязанностями… Здесь она попыталась было что-то сказать, но у нее перехватило дыхание, и из груди вырвался только слабый вздох, а я между тем продолжал: повторяю, я не обвиняю вас ни в чем и не требую оправданий, в противном случае мне станут известны факты, которые заставят меня принять гораздо более суровые меры; но я не сторонник жестокости и совсем не хочу лишать вас возможности устроиться на работу где-нибудь в другом месте.
При этих словах Надин вытаращила глаза: она наконец догадалась о моих намерениях. Теперь она нашла в себе силы заговорить, однако — так случается часто, когда она взволнованна, — начала лепетать на совершенно непонятном в северных широтах языке с резкими гортанными звуками; на этом языке, по-видимому, тысячелетиями разговаривали ее предки из африканских лесов. Поняв, что происходит, она умолкла и склонила голову, уповая на мое милосердие.
Теперь я тоже с трудом подбирал слова; в конце концов, собравшись с силами, я напомнил ей, что здесь у нее испытательный срок и договор истекает в конце года. Учитывая сложившиеся обстоятельства, я не намерен продлевать договор. Ей было поручено непростое задание, и она с ним не справилась — на это указывает внезапное, необъяснимое ухудшение состояния пациента, и этому ухудшению вряд ли найдется другая причина, кроме как ее неосторожность и легкомысленное поведение. Той ночью, снимая с юноши куртку, чтобы осмотреть его, я обнаружил, что она просто ледяная, — это было очевидным доказательством того, где провел пациент последние несколько часов, а точнее, где он их не провел, вопреки установленным в больнице правилам и самой элементарной предосторожности. Неужели она наивно полагала, что ей удастся скрыть от меня его отсутствие? Неужели спутала больницу с отелем, откуда пациенты могут выходить, когда им вздумается, не спрашивая разрешения начальства, вернее, не в свое удовольствие, а по прихоти бедовой медсестры, затеявшей непонятно какую авантюру?
В общем, я сказал все, что думал. В негодовании я выпалил все, о чем собирался промолчать по случаю наступающего Рождества и из жалости к Надин, ведь она еще толком не успела набраться опыта. Она слушала молча, комкая в руке яркий носовой платок в цветочек, который вскоре превратился в насквозь мокрую тряпицу, и мне пришлось предложить ей свой, чтобы не дать разлиться морю слез. Не могу видеть, как плачет женщина, — в тот момент я готов был отдать все на свете, только бы утешить бедняжку Надин; но я выдержал свою роль до конца и лишь добавил чуть помягче, что, разумеется, до истечения срока договора она останется с нами и получит положенное ей жалованье, однако перестанет заботиться о пациенте, на которого оказала такое скверное влияние. Я рассчитывал перевести ее в приемный покой или поручить другую, не столь ответственную работу.
Тебе, наверное, покажется странным, но эта последняя фраза расстроила ее сильнее, чем известие об увольнении. Она не возражала, нет, перечить мне у нее не хватало духа; я понял, насколько она потрясена, по тому, как она на меня посмотрела — сухими глазами без слез, вопрошающе, пристально, словно не могла взять в толк, чем заслужила такое наказание. Этот ее взгляд, замечу к слову, укрепил меня в принятом решении, поскольку Надин и в самом деле начала относиться к юноше ревностно, как к своей собственности, и здравый смысл подсказывал, что пора их разлучить, даже если и не принимать во внимание тот ночной эпизод.
Пойми меня правильно, я не сухарь и не бессердечное чудовище. Только что я написал пару строк нашему общему другу, который вот уже несколько лет — впрочем, результат его работы весьма сомнителен — возглавляет лондонскую больницу (ты, конечно, понял, на кого я намекаю), с просьбой принять юную Надин, из кожи лез вон, стараясь дать ей самую завидную рекомендацию. По большому счету она добросовестная медсестра — конечно, если речь не идет о пациентах, подобных нашим, и в обычной больнице сумеет справиться с работой, не допуская промахов.
А юноша постепенно приходит в себя, сегодня он даже вернулся в зимний сад и снова стал полноправным хозяином рояля — к радости избранной публики, однако не только ее. Я тоже сиял от радости, и это меня, честно говоря, удивило — вот тогда-то я понял, как мне не хватало тех ежедневных путешествий в мир грез. Подумать только, ведь до встречи с юношей я относился к музыке скептически, с легким подозрением — она казалась мне искусством непонятным и не заслуживающим доверия, поскольку напоминала блуждание в потемках; словом, я воспринимал ее как полную противоположность своей профессии, которая, наоборот, призвана нести свет и ясность и распутывать хитросплетения человеческих мыслей и рефлексов. Теперь мне начинает казаться, что музыка — это наука о душе, в корне отличная, правда, от нашей науки, но она подчиняется таким же строгим законам и, более того, может привести меня к пониманию важнейших вещей при условии, что я разгадаю ее загадку: как знать, а вдруг она подскажет путь, по которому я смогу проследовать за миссис Дойл в комнату ее сына, проникнуть с малышкой Лизой в замкнутый, глухой и непостижимый мир ее одиночества, заглянуть вместе с графиней в гостиничные номера, где медленно увядают цветы в вазах, а на полотенцах краснеют скорбные следы губной помады…