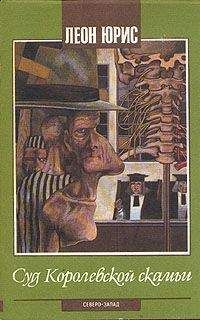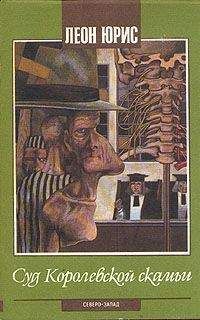Леон Юрис - Суд королевской скамьи, зал № 7
В том месте, где Грэнби-стрит у кладбища поворачивает к берегу океана, находился небольшой аэродром с земляной взлетной полосой. Его со всех сторон окружали гаражи, и, чтобы добраться до него, надо было перелезать через надгробия. Сейчас все это — территория военно-морской базы, но несколько старых зданий там еще стоят. Так или иначе, один богач, владелец еврейского универмага по имени Джейк Голдстайн, был большим поклонником Бена, а кроме того, имел несколько самолетов, в том числе один спортивный. В полете его трясло, как в лихорадке, но зато на нем можно было выделывать всякие фигуры. Бен начал летать на нем, а я в это время болтался на аэродроме.
Бен был там единственным летчиком-евреем, если не считать мистера Голдстайна, но все остальные его уважали. Он был таким же, как они, — человеком особого склада, и то, что он еврей, было не так уж важно. Так что опять начинать знакомство с драк нам не пришлось.
Джейк Голдстайн оплачивал участие Бена в множестве воздушных гонок. Кроме того, Бен часто ездил с показательными полетами по ярмаркам. Пока его не было, я помогал чем мог другим пилотам и подносил им тормозные башмаки, а потом понемногу начал возиться с моторами, и время от времени меня за это брали с собой в полет.
Бен позволял мне держать штурвал и научил управлять самолетом, как и всему остальному, что я умел. Но когда он уезжал, кое-кто из пилотов в воздухе задавал мне жару. Я знал, что они просто дурака валяют, но они начинали крутить петли и бочки до тех пор, пока я чуть не терял сознание. Шатаясь, я с трудом вылезал из кабины и бежал в туалет, где меня выворачивало наизнанку.
Среди пилотов был один антисемит, его звали Стейси. Однажды, когда Бен был в отъезде, он закрутил меня в воздухе до того, что я лишился чувств. Кто-то из ребят рассказал об этом Бену, и он принялся потихоньку со мной заниматься. Он научил меня всем фигурам пилотажа, какие только есть. И вот однажды Бен говорит: „Эй, Стейси, не хочешь ли ты слетать с Эйбом? По-моему, он уже может летать сам — испытай его, слетай с ним инструктором вместо меня“. Стейси ничего не заподозрил, и мы забрались в двухместную кабину с двойным управлением. Только Стейси не знал, что его штурвал отключен. Бен позвал всех смотреть. Ого-го, ну и показал же я этому сукину сыну! Я делал бочки над самой землей, переворачивал самолет вверх ногами, бросал его круто вверх, пока не захлебывался мотор, а потом пикировал прямо на ангар и выходил из пике с тройной перегрузкой. Временами я поглядывал назад — похоже было, что Стейси вот-вот наложит в штаны. Но я продолжал в том же духе, пока он не взмолился о пощаде и не стал умолять меня садиться. На закуску я добавил еще несколько мертвых петель.
После этого Стейси на аэродроме больше не появлялся.
Я был самым молодым пилотом во всей нашей компании, и все шло прекрасно до тех пор, пока однажды у меня не отказал мотор и мне не пришлось садиться на брюхо посреди кукурузного поля. Я не чувствовал страха, пока самолет не остановился как вкопанный и не встал на нос. Я испугался только после того, как выкарабкался из кабины, и со слезами просил, чтобы ничего не говорили маме и папе.
Я был весь в ушибах и соврал, будто упал с крыши гаража. Но они все узнали от страхового агента и от специалистов, которые расследовали аварию. Ну и разбушевался же отец!
— Если ты, Бен, намерен сломать себе к дьяволу шею — пожалуйста. Но чтобы ты взял это нежное дитя и сделал из него гангстера — так это я тебе запрещаю!
Папа, упокой Господи его душу, почти никогда ничего не запрещал. Его пекарня стала первой в городе, где рабочим было разрешено организовать профсоюз, и он пошел на это без всякой забастовки или кровопролития, а просто потому, что был человек свободомыслящий. Остальные владельцы пекарен чуть не линчевали его, но папу не так легко было запугать. И он был первым, кто взял на работу чернокожего пекаря. Наверное, мало кто помнит, сколько мужества надо было тогда для этого иметь.
Так вот, после этой истории я долго не летал. До тех пор, пока Бена не убили в Испании. А тогда я должен был летать, и папа это понял.
Но чаще всего, когда я думаю про Бена, мне вспоминаются обыкновенные спокойные дни, когда мы просто гуляли вместе. Иногда мы ходили на болото за школой и ловили лягушек. Там всегда болтались ребята из приюта, и мы устраивали лягушачьи гонки. Иногда мы играли в кегли в переулке — это была единственная игра, в которую я играл лучше Бена.
А лучше всего бывало нам на берегу залива. Мы вставали пораньше, садились на велосипеды и ехали на пристань, где за пятачок покупали арбуз. Мальчишкам там продавали по дешевке арбузы, которые треснули при перевозке. Я вез на багажнике корзинку с моей собакой, а Бен — арбуз. Мы усаживались на берегу и клали арбуз в воду, чтобы охладить, а пока он охлаждался, выходили на причал и ловили только что перелинявших крабов. Мы привязывали на веревку кусок гнилого мяса и опускали его в воду, а когда краб подбирался к приманке, Бен подцеплял его сачком. Эти крабы ужасно глупые.
Мама не придерживалась кошерной кухни, но приносить в дом крабов не велела, и мы жарили их там, на берегу, с кукурузным початком или картофелиной, а арбуз съедали на десерт и потом лежали на траве, глядели на небо и болтали о всякой всячине.
Мы всегда наедались так, что у нас болели животы, и мама ругалась, что мы ничего не едим за обедом.
Даже когда мы стали старше, мы любили вместе ходить гулять на берег. Там Бен впервые сказал мне, что хочет стать коммунистом.
— Этого папа никогда не поймет. Когда он был мальчишкой, он всегда жил по-своему. Он уехал из дома, чтобы работать в болотах Палестины. Ну, а я жить так, как жил он, не могу.
Бен очень сочувствовал чернокожим и считал, что коммунизм — единственное решение проблемы. Он много говорил о том времени, когда они получат равные права, и бейсболисты вроде Джоша Гибсона или Сэчела Пейджа смогут играть в высшей лиге, и в универмагах „Райс и Смит“ или „Уэлтон“ будут работать цветные продавцы, и они смогут обедать в тех же ресторанах, что и белые, и не будут обязаны занимать в автобусе только задние места, и их дети смогут учиться в школах для белых, и они смогут жить в белых кварталах. Тогда, в середине 30-х годов, во все это было трудновато поверить.
Я хорошо помню последний раз, когда я видел Бена.
Он склонился над моей кроватью и тронул меня за плечо, а потом прижал палец к губам и сказал шепотом, чтобы не разбудить папу с мамой:
— Я уезжаю, Эйб.
Я был совсем сонный и сначала ничего не понял. Я подумал, что он опять улетает на какую-нибудь ярмарку.
— Куда ты уезжаешь?
— Ты никому не скажешь?
— Никому.
— Я еду в Испанию.
— В Испанию?
— Воевать с Франко. Буду летчиком у республиканцев.
Кажется, я расплакался. Бен присел на край кровати и обнял меня.
— Не забудь, чему я тебя учил, — тебе это может пригодиться. Но в общем папа прав — занимайся своим писанием.
— Я не хочу, чтобы ты уезжал, Бен.
— Надо, Эйб. Я должен как-то во всем этом участвовать.
Правда, странно, что я не мог плакать, когда узнал о смерти Бена? Хотел, но не мог. Это пришло только много позже, когда я решил написать книгу про своего брата Бена.
Я поступил в Университет Северной Каролины, потому что там был факультет журналистики, где читали лекции Томас Вулф и многие другие писатели. Там я мог претворить в жизнь обе свои главные мечты — писать и играть в бейсбол.
Я был единственным евреем в команде первокурсников, и можете быть уверены, что кто-нибудь постоянно пытался попасть мне мячом в ухо или поранить шипами бутсов. Тренировал команду один мужлан-неудачник, который так и не поднялся выше третьей лиги и даже табак не курил, а жевал, словно у себя в захолустье. Меня он невзлюбил. Он не говорил при мне ничего плохого про евреев, но того выражения, с каким он произносил „Эйби“, было вполне достаточно. Я был мишенью всех розыгрышей в раздевалке и слышал все оскорбительные замечания, которые отпускались якобы за глаза.
Моя подача была самой лучшей во всей нашей подгруппе, и когда все они поняли, что благодаря урокам Бена я и на поле не теряюсь, дела пошли лучше. Даже до этого сукина сына тренера дошло, что со мной надо разговаривать вежливо, потому что без меня эта салажья команда сидела бы на последнем месте.
Тем не менее моя голова оставалась главной мишенью для всех противников. В первых четырех играх — благодаря мне мы все их выиграли — подающие попадали в меня шесть раз. К счастью, я каждый раз успевал увернуться, и удар приходился в ноги или в ребра. Но рано или поздно это должно было плохо кончиться. В один прекрасный день пушечная подача здоровенного левши из Дьюкского университета угодила мне в руку чуть выше локтя и сломала кость.