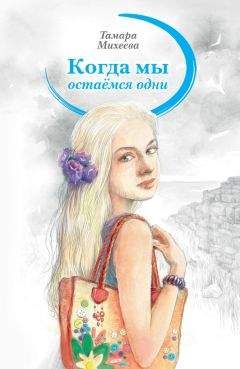Юрий Азаров - Новый свет
— А вам бы я советовал попридержать язык!
Я собираю ребят. Славе Деревянно и Толе Семечкину стыдно за то, что они не смогли обеспечить полный порядок, и они, я знаю, меня винят в этом: не даю я им, дескать, развернуться. А мне Икарова с Лужиной однажды как заявили, что Славка с Семечкиным в сарае били нарушителей, так я не выдержал, объявил всем:
— Еще одно такое нарушение, и последует наказание вплоть до исключения из школы…
— А они другого языка никогда не поймут, — сказал, потупив голову, Слава Деревянко. — Я же их знаю.
— А може, и правда, хай им чертей надают, а то спасу нет от некоторых разгильдяев, — это даже Сашко сказал. — Вчера только отвернулся, а этот Касьянов раз — всю ладонь в повидло и в карман, в новый пиджак, черт знает что за детвора…
— Нет, не можем мы пойти по такому пути! — орал я. — Насилие и оскорбления приведут к беде. Я за наказание, но не за физические меры!
— Да им на все ваши наказания, всякие там обсуждения и выговоры наплевать, — это Толя Семечкин сказал.
— Это неправда. Касьянов третий раз ворует, но, может быть, и последний…
Я собираю ребят и перед строем говорю о Касьянове. Говорю, явно подражая методе Макаренко:
— Я верю Касьянову. Я за него ручаюсь. Я верю ему как самому себе. Он, может быть, еще два раза украдет — и больше не будет. Мы, ребята, разрешаем Касьянову украсть всего два раза. Разрешаем?!
— Разрешаем! — кричит веселая толпа.
Касьянов уничтожен, а я потом размышляю: «Черт возьми, что же лучше — это мое уничтожение или „обработка“ детским коллективом?» Я не выдерживаю, бегу в корпус, нахожу Касьянова и говорю ему:
— Прости меня.
Он плачет, и я чувствую, что его слезы искренние, и вот теперь я уверен, что он не украдет… ну, может быть, всего два раза…
Снова на меня нападают воспитатели: что это за метода? что за разрешение два раза украсть?!
Педагоги в растерянности перед стихией буйного, исковерканного детства, перед стихией вандализма и агрессии, которые, впрочем, тоже имеют свои причины: Рябов кого-то вновь оскорбил, Шаров за ухо кого-то схватил, Злыдень с Каменюкой наказали кого-то в своих застенках.
— Ох, куды нас занесло, Костичка! — кричит Раиса, жена Шарова. — Шторы вси пообрывали, архаровцы, и скатерти порезали ножницами! Ох, как мы отсюда выберемся?…
— Да не галдысь, кажу, — Шаров ей отвечает. — Тошно и так — деться некуда.
— Ох, Костичка, я ж тоби казала!
— Да не галдысь! — в десятый раз Шаров срывается. — Перемелется все, мука будет…
— Усим парла надо дать, — Каменюка советует, — иначе все разнесуть.
Еще не все знают в Новом Свете, что такое «дать парла». Привез Шаров это словечко, но не успел еще раскрыть всем его жестокий смысл.
«Дать парла» (от французского «парле» — говорить) означало у Шарова только одно: дать чертей. Пока Шаров не решается злоупотреблять «парлализацией» — тоже научный термин из шаровской педагогики. Осторожничает Шаров. Ходит как по корочке тонкого льда. Не нравятся ему мои добрые отношения с детьми, не может понять, как это я жестоко наказываю ребят, того же Деревянко или Никольникова, а они даже гордятся этим. И Шаровша не может понять моей методы. Носится она по территории, обо всем своему хозяину докладывает:
— Ой, Костичка, що на кухни там робиться!! Петровна у помои кусок сала кинула, а Максимыч бачив все и ничого не сказал…
Отправляется Шаров в столовую. Крепким шагом идет в кухоньку. В помои руки сует решительно, вытаскивает кусок сала, в марлю завернутый!
— Нас обкрадывают! — кричит Шаров диким голосом. — Детей обворовывают!
Дети ложками не звякают, стриженые головки приподняли, восхищаются шаровской справедливостью.
А Шаров составить акт потребовал на хищение сала.
А мы с Волковым стоим, и стыдно нам глядеть в глаза Максимычу, и Петровну жалко.
— Черт попутал мене с тим салом! — оправдывается Петровна. — Николы на чужое добро не зарилась. Простить мене, люди добрые! — плачет Петровна перед обществом.
И прощает ее Шаров. Машет рукой. Детей по головке гладит Шаров, спрашивает:
— Наедаетесь? Или голодные?
— Наедаемся! — кричат дети.
И тут откуда ни возьмись — Эльба радостно залаяла, и совсем весело всем стало. И Шаров рассмеялся. Максимыч захохотал, Петровна улыбнулась, вытирая слезы фартуком.
Я нервничал. Уже два раза столкнулся с Шаровым. Предложил ему ребят включить в труд. Я знал: нужно пробудить энергию, чтобы жаром все наполнилось, и тогда может еще что-то получиться. Шаров труд всякий, в том числе и по самообслуживанию, запретил: «Не положено». Он и примеры привел: «Были случаи, когда детей включали в труд, а комиссия приезжала и таких чертей надавала…» И зло улыбался Шаров, и не рассказывал, как однажды он одну маленькую школку сделал несказанно богатой, где научил ребят тапочки шить да веревки вить, а из веревок бредни плести, которые дорогу открыли Шарову в богатства разные — на бредни он и кобылку выменял, и двух телят, и шифер для новой пристройки, и даже оборудование для физкабинета. Обо всем этом не рассказал мне Шаров и глядел на меня насмешливо, когда я вместе со Смолой и Волковым доводами сыпал, почерпнутыми из Фурье да Макаренко: общество неизбежно становится паразитарным, если нет труда, и изобилие никогда не наступит, если ребенок не научится мыть тарелки, строгать, пилить, убирать за собой, экономить каждую копейку, как свою, так и государственную. И что истинные отношения могут наступить только тогда, когда есть труд, когда общая энергия очищает и коллектив и личность…
Шаров отмахивался от меня, говорил, что ему сейчас не до утопий, и мне от этого становилось грустно. И моя окрыленность приглушалась.
А небо все больше мельхиорилось, и хоть светилось оно, а все равно сыпало дождевыми иголками, отчего прозрачная сеточка тонкой рябью висела над Новым Светом, и сырость шла снизу и сверху, и не было конца холодной неустроенности, потому как отогреть душу негде было. За неделю были съедены продукты, и хлеб был съеден, и селедка была съедена, и сахар был съеден, и мясо было съедено, только макароны с крупой еще были, да моченые яблоки, да полбочки с перцем. А проехать за территорию школы было невозможно: с трех сторон река Сушь разлилась, затопила и мосток исторический, а с четвертой стороны одна пахота была: ног не вытащишь из чернозема.
Продукты завозить — это обязанность Каменюки с Сашком. Каменюка соломенную брыль натянул на лысину, кусок клеенки сверху приспособил, чтобы вода стекала. Не выдержал Шаров, и без того злой, заорал на Каменюку:
— Та зними ты цю чертову магараджу!
Что такое магараджа, Шаров не знал и Каменюка не знал. Растерялся Каменюка, стал по сторонам глядеть, магараджу искать — не нашел, не поймет, что же ему такое надо снять.
Рассмеяться бы Шарову, да сил нету, потому что погасло все в природной шаровской душе.
Нет худа без добра.
И сердце мне подсказывало, что и этот дождь не случайно так хрустально светится, и небо такой таинственно-прекрасной мельхиоровостью отдает, и в этой напряженной растерянности есть своя тайна, и даже в том есть она, что бричка с лошадью Майкой застряла посредине реки, и бричка с жеребцом Васькой застряла посредине реки, и Довгополый отказался вытаскивать бричку с Майкой, хотя ему и бревно пообещали, и бричку с Васькой отказался вытаскивать Довгополый, хотя ему сверх того бревна еще одно бревно пообещали:
— Не такой я дурень, щоб радикулит наживать. Бачьте, як Злыдень мучается…
Нет, в этом прозрачно-матовом мире все не случайно. Тоскливая серость заполонила мир, а уже где-то в глубинах неба, там, за чернотой хмурой, зреет солнечная заря, оранжевость яркая полыхает, и когда почувствуешь, что он есть, этот прекрасный свет за черными тучами, когда первый поймешь, что он непременно явится, этот свет, оку твоему откроется, тогда и все ненароком изменится и настанет черед любому худу обнаружить свои добрые вкрапления.
Тогда-то и тепло вспыхнет в душе твоей, тогда-то этому теплу и задача великая выпадет отогреть душу свою и души других. Вроде бы каждому дано светить и светиться, каждый велик в своей человеческой сути и имеет право проявить свою неординарную великость, но не каждый способен дождаться своего часа, не каждый в считанную роковую минуту или час роковой способен проявить не столько хладнокровия, сколько надеждой запылать, чтобы отступлений от этой надежды не было, чтобы она, эта надежда, стала единственной сбыточной удачей.
Ко мне уж в десятый раз подходят Деревянко и Семечкин, и они повторяют мою заветную формулу: «Только труд да справедливость спасут нас». А труд запрещен разными комиссиями, и мои проекты под сукно положены. Проекты, где учение чередовалось с трудом и искусством, где самоуправление было главным методом воспитания.