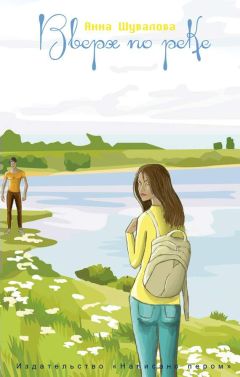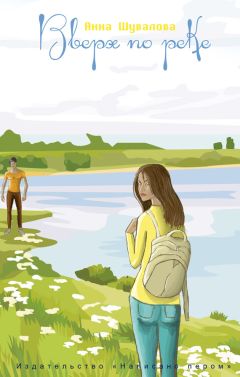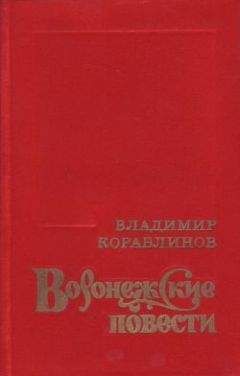Джоан Дидион - Синие ночи
Одна называется «Детеныши животных с мамами», и это просто альбом черно-белых фотографий детенышей животных с мамами: большинство домашних, знакомых с детства — ягнята и овцы, жеребята и кобылы, но есть и более экзотические — ежи, коалы, ламы. В книгу «Детеныши животных с мамами» вложена открытка из Франции с изображением белого медвежонка с мамой. Подпись по-французски и по-английски: «Colin sur la banquise» — «В обнимку на льдине».
«Увидела — и сразу подумала о тебе», — написано на обороте. Почерк стал более небрежным, но я по-прежнему узнаю в нем тот, детский, старательный.
Ее почерк.
Под «Детенышами животных с мамами» «Скафандр и бабочка» Жана Доминика Боби — автобиографическая повесть бывшего главного редактора французского Elle, где описано состояние человека, перенесшего обширное кровоизлияние в мозг и очнувшегося через полтора месяца на больничной койке в так называемой «бодрствующей коме» — полностью парализованным, «замурованным в собственном теле», если не считать одного глаза, которым он мог моргать. (Возникал ли разговор о «синкопе»? О симптомах, характерных для «пресинкопального состояния»? Нет ли в книге ключей к разгадке? К разгадке того, что случилось с Жаном Домиником Боби? К разгадке того, что случилось со мной?) По причинам, которые я в то время не до конца понимала и в которых позднее запретила себе разбираться, «Скафандр и бабочка» очень много значила для Кинтаны, почему я тогда и не стала говорить о том, что нахожу книгу неудачной и даже не особо ей верю.
Лишь позднее, когда она сама оказалась «замурованной в собственном теле», прикованной к инвалидному креслу после кровоизлияния в мозг с последовавшей затем нейрохирургической операцией, я перечитала эту книгу другими глазами.
И, перечитав, запретила себе разбираться в том, почему она так много значила для Кинтаны.
Забери меня в землю.
Забери меня в землю спать вечным сном.
Кладу «Скафандр и бабочку» на рабочий стол в кабинете.
Поверх «Детенышей животных с мамами».
Colin sur la banquise.
Про льдины мне можно не напоминать. Про льдины я и без открытки не забываю. За первый год болезни Кинтаны, навещая ее в больницах, я на всю оставшуюся жизнь на них насмотрелась: из окон реанимации «Бет-Израэл-Норт», выходивших на Ист-Ривер; из окон реанимации Колумбийского пресвитерианского медицинского центра, выходивших на Гудзон. Вспоминая об этом сейчас, представляю, будто вижу на одной из льдин, плывущих по Ист-Ривер в сторону арочного моста, белого медвежонка с мамой.
Представляю, будто показываю эту сладкую парочку Кинтане.
Colin sur la banquise.
Забери меня в землю.
Запрещаю себе думать про льдины.
Хватит.
Подумаешь про льдины — и в ушах опять звучит голос, вызывающий санитара, чтобы везти ее в морг.
Иду в Центральный парк и какое-то время сижу на скамейке с медной табличкой на спинке. Медная табличка означает, что кто-то сделал денежное пожертвование на нужды парка. В парке теперь много таких скамеек, много таких табличек. «Кинтана-Роо Данн Майкл, 1966–2005, — написано на моей. — И в зной, и в стужу». Пожертвование сделала моя подруга, а надпись заказала я. Подруга зашла проведать Кинтану после очередной операции в Медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и сначала видела, как ей делали физиотерапию в нейрореабилитационном отделении, а потом — как мы с ней обедали в открытом кафе при больнице. В тот день и она, и я верили, что Кинтана находится на пути к выздоровлению. Мы не могли предположить, что этот путь приведет к скамейке с медной табличкой.
Кажется, это был последний год, когда еще оставалась надежда.
Надежда на «выздоровление».
Тогда мы не представляли, до какой степени «выздоровление» обманчиво.
Не менее обманчиво, чем «усыновление»: сулит многое, а на деле…
Colin sur la banquise.
Инвалидное кресло.
Кровоизлияние в мозг, нейрореабилитация.
И в зной, и в стужу.
Интересно, вспоминала ли Кинтана «Скафандр и бабочку», фактически повторив судьбу автора?
Она избегала говорить о болезни.
Считала, что, как всякое неблагоприятное обстоятельство, болезнь можно преодолеть, если в нее не «погружаться».
— Это как когда кто-нибудь умирает, — объяснила она однажды. — Нельзя в это погружаться.
29Часы останови, забудь про телефон
И бобику дай кость, чтобы не тявкал он.
Накрой чехлом рояль; под барабана дробь
И всхлипыванья пусть теперь выносят гроб.
Пускай аэроплан, свой объясняя вой,
Начертит в небесах: «Он мертв» над головой,
И лебедь в бабочку из крепа спрячет грусть,
Регулировщики — в перчатках черных пусть.
Он был мой север, юг, мой запад, мой восток,
Мой шестидневный труд, мой выходной восторг,
Слова и их мотив, местоимений сплав.
Любви, считал я, нет конца. Я был не прав.
Созвездья погаси и больше не смотри
Вверх. Упакуй луну и солнце разбери,
Слей в чашку океан, лес чисто подмети.
Отныне ничего в них больше не найти[62].
Это «Похоронный блюз» У. Х. Одена. Всего шестнадцать строк, а сколько гнева, безрассудного бешенства, слепой ярости. В первые дни и недели после смерти Джона меня раздирали те же чувства. Позднее, готовясь к захоронению урны, я показала «Похоронный блюз» Кинтане. Хотела прочитать на поминальной службе, которую мы с ней готовили. Она взмолилась, чтобы я этого не делала. Сказала, что стихи ей не нравятся. Что они «неправильные». Была очень категорична. В тот момент я подумала, что ее отталкивает тон стихотворения, его сбивчивый ритм, безапелляционность, надрыв. Теперь думаю иначе. Читать «Похоронный блюз» значило для нее «погружаться».
В день, когда не стало самой Кинтаны, 26 августа 200$ года, мы с ее мужем вышли из реанимационного отделения больницы «Нью-Йорк — Корнелл», из окон которого открывался вид на реку, и пошли пешком через Центральный парк. Листья на деревьях слегка пожухли, словно загодя готовились к листопаду, — не увяли, но увядали. Когда в конце мая или начале июня Кинтану доставили в больницу, синие ночи еще только входили в свои права. Я впервые обратила на них внимание вскоре после того, как ее положили в реанимационное отделение, оказавшееся в корпусе Гринберга[63]. В фойе корпуса висели портреты меценатов, давших деньги на строительство больницы. Среди них были создатели страхового концерна AIG, которые теперь часто мелькали в новостях в связи со скандалом, вызванным его банкротством. В первые недели, идя через фойе к лифтам, я каждый раз удивлялась, почему лица меценатов выглядят такими знакомыми, и вечером по пути из реанимационного отделения ненадолго задерживалась перед портретами, чтобы их рассмотреть. Затем выходила на улицу в пронзительную синь сумерек наступившего лета.
В тот короткий период казалось, что все складывается удачно.
Что не все врачи считают положение безнадежным.
Что со дня на день наступит улучшение.
Обсуждалась даже возможность перевода Кинтаны в отделение интенсивной терапии, но до этого так и не дошло.
Как-то вечером по пути из реанимационного отделения я задержалась перед портретами меценатов и вдруг поняла: ее никуда не переведут.
Свет за окнами изменился.
Пропала синева.
К тому времени ей уже сделали пять операций. Держали на аппаратах и обезболивающих. Оставили открытым разрез. Я спросила хирурга, как долго это может продолжаться. Он сказал, что один его коллега оперировал больного восемнадцать раз.
— И больной выжил, — закончил он.
Я спросила, в каком состоянии этот больной сейчас.
— Когда ваша дочь поступила к нам, она уже была далеко не в лучшем состоянии, — сказал хирург.
Так обстояли дела. За окнами сгущалась тьма. Уж и лето кончалось, а Кинтана по-прежнему лежала в реанимационном отделении, из окон которого открывался вид на реку, и хирург напоминал мне, что, когда ее туда поместили, она уже была не в лучшем состоянии.
Значит, умирает.
Теперь ясно, что умирает.
Хватит себя обманывать. Хватит верить врачам: они просто стараются не показать, что все безнадежно. Хватит делать вид, будто я со всем могу справиться. Она умрет. Не обязательно в эту ночь, не обязательно завтра, но мы на финишной прямой.
26 августа Кинтаны не стало.
26 августа мы с Джерри вышли из реанимационного отделения больницы «Нью-Йорк — Корнелл», из окон которого открывался вид на реку, и пошли пешком через Центральный парк.
Пишу и вижу, что всюду называю Джерри по-разному. Где-то «Джерри», где-то — «муж». Кинтане нравилось звучание этого слова. Муж. Мой муж.