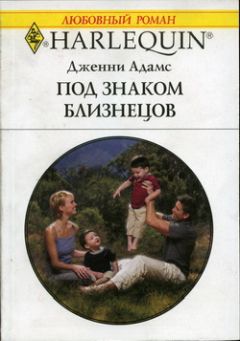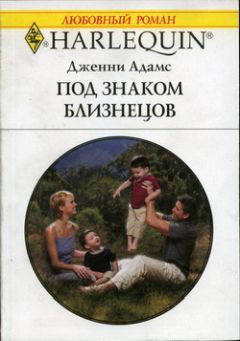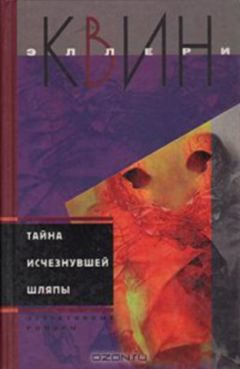Демьян Кудрявцев - Близнецы
При таком раскладе немудрено, что близнецы не были так желанны, становились объектом насмешек и грубых игр, разделялись и проклинались. Отказ от здоровых детей, редкое явление в ранних цивилизациях, был повсеместной практикой при рождении близнецов.
Основатели Рима росли под волчицей, видимо, потому, что были оставлены своей настоящей матерью хищникам на потраву.
В Африке, в которой пары рождаются чаще, чем где бы то ни было, до сих пор не выработан консенсус отношения к близнецам. В разных частях одной Гвинеи можно встретить как преклонение перед явленным чудом двойного сходства, отягощенное, правда, насильственной изоляцией и навязчивым вниманием со стороны всего племени (близнецы проживают в отдельных хижинах, носят специальную одежду, не выполняют никакой работы и вечерами “обходят” племя, принося невиданную удачу), так и институализированный страх, замешанный на презрении, – в племенах, где рождение близнецов считается следствием адюльтера, провозвестием засухи и войны. Существуют сообщества, в которых каждый половозрелый юноша подвергается операции по удалению одного яичка для профилактики появления нежелательных близнецов.
Понятно, что и сами близнецы при рождении умерщвляются, а степень гуманности разных племен определяется тем, убито ли только младшее дитя из пары или же не повезло обоим.
У африканского народа галоа, например, жизнь сохраняют обоим, но тщательно, хоть и несколько отстраненно, регламентируют ее. Вне зависимости от пола первенца всегда называют Вора, а второго – Йено.
Мать обязуют всегда следить, чтобы близнецы были одинаково одеты и накормлены вровень, а спать им положено строго по разные стороны от нее. Впоследствии они должны одновременно жениться, а иначе задержавшемуся в холостяках навсегда запрещается вступать в брак.
Умирать близнецам полагается вместе, так что по смерти первого второго тоже считают умершим, до тех пор, пока сложные церемонии не вернут ему статус живущего, желательно, ненадолго.
Часто антропологи встречаются с мнением, что рождение более одного ребенка за раз – это падение на звериный уровень развития.
Считается, что мать близнецов – либо оборотень сама, либо любовница зверя (птицы). Так, антипатию к близнецам многие объясняют страхом потери различий между людьми и животными. Изгнание из племени, таким образом, становится защитой биологического вида, причем процедура может быть очень разной, вплоть до прикладного антидарвинизма – дахомеи, например, верят, что без соблюдения определенных ритуалов младенцы-близнецы могут снова стать обезьянами. ‹…›
Глава 1
Снова Стамбул, город, через который в нашей семье подымают вверх, я и сейчас сквозь него летал, специально мыл сапоги в Босфоре, на халяву хавали пахлаву.
Снова Стамбул – уксусный муравейник, тминная лавка, густой туман. На рассвете было немного зябко, отпустив таксиста, пошел пешком. Я так долго не был в той части мира, что не помнил, чьими глазами жрал эти башенки в белом белье балконов, пирамиды утренних овощей, вывески, где не-пойми-латиница вся в крючках и петельках. В этом колониальном взгляде всегда есть что-то от крестоносцев, от английской челяди
Чарльза “Бигля”, от собаки, прыгнувшей с корабля. И вдобавок еще в моем – рыжая гувернантка, не увидевшая Стамбул, Хаим – не ставший пока Ефимом, бронзовый Ататюрк.
Все города, где случилось жить, были рыбными да мясными. Исключения
– Лондон и ваш Нью-Йорк, все в молочном фарфоре блюдец, и я скажу вам, не то – Царьград, с подгнивающим смрадом жиров курдючных, пузырями лопнувших куполов, угольками тлеющих в ночь жаровен. Дым, пропитанный гарью труб, выхлопных, и горечью сигареток, окантованных черной каймой усов, перемешивался с туманом, из которого слышался встречный гул – гудки невидимой, корабельной, и той трубы, что звала меня – неотложного дела.
1991
Слежки не было. Запутавшийся маршрут никому был не по карману. Но я все равно покружил еще, выгадывая минуты, и лишь без пяти от назначенного нырнул в затхлую щель на границе рынка, сбросил плащ и надел очки дешевого реквизита, вошел через мусорный вход в кафе, которое, только пройдя насквозь, обнаружил запертым, снял табличку и, свернув щеколду, шагнул на свет – на мощенную скользкой брусчаткой волю, вече утренних челноков.
Там как будто включили звук – ор торгового междуречья полоскал товарную массу кож, только что из дубильни. Шум и крик провожал меня до вертушки “Шахерезады” – дрянь-отель на краю торжка, где пахло сваренным дерматином плюс цикорием и травой. Лифт, естественно, не работал. Напоследок выдохнув через рот, медленно, как из воды на воздух, я стал подниматься в тридцатый номер, не касаясь перил.
1992
Я ведь тоже бросал курить. Отстал тогда от своих на марше, хорваты быстро вошли в село, и пришлось мне прятаться в огурцах, доверху сваленных по подвалам.
Мне не в падлу сходить в штаны, обоняния после кокоса нету, так что вонь, она огуречна, гниль вперемешку с едким моим поносом – только хорвата отучит лезть, мне бы день простоять да до сумерек продержаться. В бранном деле уменье ждать – это главное из умений.
Плохо только – курить нельзя, словно снайперу на дуэли. Ладно, думаю, пересплюну. И сразу же задремал.
Разбудили ночью – не то кошмар лейтенантской прозы, не то взаправдашняя гроза – где-то ухало, бухало, грохотало. А тут – бух?ло текло рекой, и, войдя в тугую петлю тоски, солдаты пьяно тянули кварты у меня по-над плешью. Натолкаться кодлой в одну избу – этого было из них не выбить, хотя мои соколы без голов давали уроки огня и мяса, каждую ночь деревнях в пяти, но хорькам-хорватам не помогало. Вот убогие, думал я, хоть выходи им теперь сдавайся – если сразу не порешат, то шансы мои возрастут в разы: на тюремный сарай нападут с ножами, а эту хату – под миномет.
Я часто в жизни бывал закрыт. Я милее господу обездвижен, как имущество недвижим. Если б было мне суждено в гробу, то не надо денег давать гадалке – лег бы, заживо погребен, и царапал бы красную ткань обивки, о мореный дуб разбивал бы лоб, тупогубый бык, недобитый жлоб, брат своего времени, душегуб.
А наверху продолжалось пенье. Война в Хорватии, нужно знать, отдавала мокрым козлом. На овчине спали, кужицу ели, ливень в грязь размывал асфальт, и чесалось темечко – победным V (ви) прорезывались рога. У каждой войны есть тотемный зверь, которого бойся, кому – не верь, зажарь козла, никого не жаль, империя зла.
Так пели они. Мои первые европевцы. Уже не белые от загара, безо всякого бремени в стременах, они пели песни о переменах, о других временах. И тут к ним прибился девичий голос, тонкий волос, железный полоз, полный колос, мария каллас – звука такой частоты и масти, или такой чистоты и мести, я не слышал уже давно. В молчании, обложившем вверху сопрано, в молчании, не в тишине, заметь (танец топота продолжался по периметру пенья), я услышал древний хорал войны – интерлюдию бивуака или влажную жуть – “уважуху” нар, тяжелые хрипы работающих мужчин. По такому грунту несложно шить, выводить рисунок простых мелодий, и сопрано путается в словах, жмурится, плачет.
Доски пола вверху – трещат, осыпают голову мне щепою, осталось мало, кругом враги, потому что на их стороне Европа, потому что сволочи, усташи, потому что сербам хотелось моря, рифма – жопа, на теле – вши. Подо мною крутятся огурцы, и я хромающим русским метром думаю, мол, молодцы-хорьки, умеют жить, воевать не с бабой, не то что соколы сербы псы с немытым тупоконечным срамом, падкие, як басурман во тьме, до манаток и маток.
1992
С утра оказалось, что я ошибся. Под самое утро беднягу Бато с его женским горлом и драным задом хорваты воткнули ко мне в подвал, и еще три дня я выхаживал педераста, пока деревню не взял Аркан на своих двоих полосатых тиграх.
Бато Дражич предстал пред ним в шевиотовой гимнастерке без рода племени чина войск, худой, побитый, больной настолько, что сливался бы с зеленью униформы, если бы не конопатый нос и рыжая прядка над вспухшим глазом. Руки его покрывали пыпры, а синяя рыба тату свернулась янем вокруг пупа.
– Aloha, L’ova!
– Zdravo, Arkan! Hvala ti, dragi moj, puno ti hvala.
– Ma nema za?to. Jeli ovaj zajebant sa tobom?
– Ho?e da ga vozim do Beograd, samo ako ga ne?e?.
– Dosta mi je ovih cura, brate. Evo uzmi pljuge.
И тут я понял, что не курю.
1992
Свободной машины в деревне не было, и мы устроились на подводе. За счет жигулиных своих рессор она была мягче любой обычной, но шепот смятой травы обочин да причмокивание кобыл мне напомнили о былом, как уже когда-то на шхуне – деду, жизнь разматывалась назад, повторяясь на поворотах.
Вновь, обложен соломой весь, как хрустальная пара бокалов, мы катились, ища границ, под упрямой рукою Аркана, только львом (с обоих размеров “л”) был теперь, безусловно, я, а рядом сопливый лежал слабак, и смерть звенела над нами тихо, так, что слышно ее сейчас, извините, отвечу.