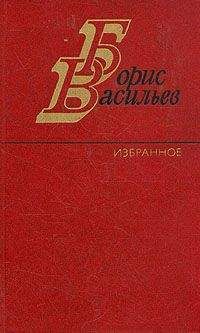Сол Беллоу - Дар Гумбольдта
В тот момент глаза Лангобарди смотрели в стороны и, казалось, могли видеть за углом, как какой-нибудь перископ.
— Образумься, Чарли. Бери пример с меня, — добавил он.
Я искренне поблагодарил его и пообещал:
— Попытаюсь.
Итак, в тот день я припарковался под неприветливыми колоннами клубной стоянки позади здания. Потом поднялся на лифте и вошел в парикмахерскую. Как и всегда, в зале суетились три мастера: огромный швед с крашеными волосами, сицилиец, верный своим привычкам (даже небритый), и японец. Все трое — со взбитыми прическами, в одинаковых надетых поверх рубашек желтых восточных халатах с короткими рукавами и золотыми пуговицами — держали в руках парикмахерские орудия, выплевывающие горячий воздух из голубых сопел, и формировали укладку клиентам. Я зашел в клуб через туалетную комнату, где Финч, настоящий Джонни Финч, освещенный неясным светом ламп, укрепленных над раковинами, ссыпал в писсуар груду ледяных кубиков. Лангобарди, ранняя пташка, был уже здесь. В последнее время он носил небольшую челку, на манер английского деревенского церковного старосты. Голый Вито оторвался от «Уолл-стрит джорнэл» и коротко улыбнулся мне. И что дальше? Но как я мог открыть новую страницу взаимоотношений с Лангобарди? Оседлать стульчак рядом с ним, упершись локтями в колени, заглянуть в лицо и ни с того ни с сего излить ему душу? Мог ли я сказать прямо в глаза, распахнутые сомнением и недоверием: «Вито, мне нужна помощь»? или «Вито, кто такой этот Ринальдо Кантабиле?» Я почувствовал болезненный удар сердца — давно оно не билось так сильно, разве что десятью годами прежде, когда я собирался сделать предложение женщине. Лангобарди то и дело оказывал мне небольшие знаки внимания, например, заказывал для меня столики в ресторанах, где никогда не бывает мест, но вопросы о Кантабиле относились уже к разряду профессиональных консультаций. Клуб для этого не подходит. Вито однажды выговаривал Альфонсу, одному из массажистов, когда тот задал мне вопрос о книгах:
— Оставь человека в покое, Ал. Чарли приходит сюда не для того, чтобы говорить о своей работе. Мы здесь, чтобы отвлечься от дел.
Когда я рассказал об этом Ренате, она заметила:
— Значит, вы близкие друзья.
Но теперь я понял, что к Лангобарди я не ближе, чем к «Эмпайр Стейт билдинг».
— Сыграем партию? — предложил он.
— Нет, Вито, не могу. Я приехал забрать кое-что из своей ячейки.
Обычные метания, думал я, возвращаясь к своему изуродованному «мерседесу». Как типично для меня. Обычный порыв — найти поддержку и опору. Найти человека, который пройдет рядом со мной по крестному пути. Совсем как папа. И где же папа? А папа — на кладбище.
* * *
В мастерской мой «мерседес» вызвал вполне понятное недоумение и подогрел любопытство раздувающегося от важности управляющего и техника в белой спецовке, но я отказался отвечать на вопросы.
— Не знаю, что случилось, Фриц. Я нашел ее в таком состоянии. Приведешь в порядок? Да! Счет я видеть не хочу. Отправь его прямиком в «Континентал Иллинойс». Они оплатят.
За работу Фриц брал не меньше нейрохирурга.
На улице я поймал такси. Диковатого вида водитель носил неподражаемую прическу афро, напоминавшую замысловато подстриженный куст из версальских садов. Замызганное заднее сиденье было присыпано сигаретным пеплом, попахивало пивной. Нас разделяла пуленепробиваемая перегородка. Водитель сделал разворот и погнал прямо на запад по Дивижн-стрит. Захватанные плексигласовые стекла и его афро мешали мне смотреть по сторонам. Да и к чему? Я все здесь знал на память. Огромные куски Чикаго ветшали и рушились. Что-то перестраивали, где-то просто лежали руины. Все это напоминало киномонтаж — подъем, падение и новый подъем. Дивижн-стрит, когда-то преимущественно польская (во всяком случае там, где находилась баня), теперь сделалась почти всецело пуэрториканской. В польский период небольшие кирпичные бунгало окрашивали ярко-красным, темно-бордовым и карамельно-зеленым. Лужайки огораживали штакетником из железных трубок. Мне всегда казалось, что где-нибудь на берегу Балтики должны существовать городки (ну, например, Гдыня), как две капли воды похожие на Дивижн-стрит, с тем только отличием, что там в приусадебные участки не врезаются иллинойские прерии и перекати-поле не шуршит по улицам. Перекати-поле навевает меланхолию.
В старые времена, когда еще ходили фургоны с углем и льдом, домовладельцы обычно разрезали пополам сломанные котлы, устанавливали их на лужайках и сажали в них цветы. Необъятные польские пани в шляпках с лентами каждую весну наполняли краской баночки из-под мыла «Саполио» и подкрашивали эти котлы-клумбы, так что они сияли серебром на фоне ярко-красных кирпичей. Двойные ряды заклепок напоминали тисненные на коже узоры африканских племен. Польки высаживали герань, турецкую гвоздику и другие дешевенькие бросовые цветочки. Я показывал все это Гумбольдту Флейшеру давным-давно. Он приехал в Чикаго на поэтические чтения и попросил меня устроить для него экскурсию по городу. Тогда мы были добрыми друзьями. Я приехал повидаться с отцом и подобрать материалы для завершения своей книги «Деятели „нового курса“ в библиотеке Ньюберри. На надземке я привез Гумбольдта на скотобойни, и он увидел Луп. Мы поехали на берег озера и послушали противотуманные гудки. Они печально всхлипывали над дрожащим шелком пахнущей свежестью лиловой воды. Но Гумбольдт гораздо сильнее реагировал на знаки своего привычного окружения. Серебристые котельные заклепки и пылающие огнем герани быстро надоели ему. Он бессильно слушал меня и резко оборачивался, едва заслышав жужжание роликовых коньков по хрупкому цементу. Я тоже привязан к урбанистическим уродствам. В полном соответствии с современной тенденцией откупиться от банальностей (всего этого старья и нищеты) при помощи искусства и поэзии, раскрывая высшие силы души.
Мэри, моя восьмилетняя дочь, подметила отцовскую слабость к онтогенезу и филогенезу. Она всегда с удовольствием слушает о прежней жизни.
— У нас были угольные печи, — рассказал я ей, — и черные кухонные плиты с никелированным бордюром. Над печкой в гостиной был купол, как в церкви, а на огонь смотрели сквозь слюдяное оконце. Я притаскивал ведерко с углем и выгребал золу.
— А что ты носил?
— Ледериновую летчицкую шапку с ушами из кроличьего меха, высокие ботинки с ножнами для ржавого складного ножа, длинные черные чулки и брюки гольф. А под ними — шерстяное трико, от которого у меня в пупке скапливались катышки ворса.
— А на что это похоже? — хотела знать моя младшая дочь.
Лиш, которой десять, — мамина дочка, и такая информация ее не интересует. Мэри не такая хорошенькая, как сестра, но мне она кажется более привлекательной (больше похожей на отца). Она скрытная и прижимистая. Она привирает и хитрит больше, чем обычно для маленьких девочек, и это тоже трогательно. Жевательные резинки и шоколадки она прячет с невероятной изобретательностью. Я находил ее нычки под обивкой и даже в своей картотеке. Она знает, что я не часто просматриваю свои исследовательские материалы. Мэри подлещивается ко мне и крутит мною совсем не по-детски. И любит рассказы о старых временах. Ей для чего-то нужно будить отцовские эмоции и манипулировать ими. В сущности, я достаточно охотно пускаюсь в вспоминания. Мне необходимо передать кому-нибудь свои впечатления. А значит, у меня есть планы относительно Мэри. Нет, конечно, ничего определенного. Просто меня не покидает мысль, что если я сумею пропитать детское сознание своими мыслями и впечатлениями, позднее, когда я стану слишком старым, слишком слабым или слишком глупым, Мэри сможет продолжить мою работу. Сама или, возможно, вместе с мужем. Если получится. Я думаю о ее будущем. В запертом ящике моего стола сложены записки и воспоминания, предназначенные для нее, правда, изрядную часть из них я писал в подпитии. Время от времени я обещаю себе прошерстить их до того, как смерть собьет меня с ног на корте или на матрасе с Ренатой или с кем-нибудь еще. Мэри несомненно вырастет умной женщиной. «К Элизе» она играет гораздо лучше, чем Лиш. Мэри чувствует музыку. Но я все время беспокоюсь за нее. Она вырастет тоненькой девчушкой с прямым носиком и хорошим музыкальным чутьем. А лично я предпочитаю пухленьких женщин с хорошим бюстом. Поэтому мне жаль Мэри уже сейчас. Что касается проекта, или задачи, которую я хотел бы возложить на нее, речь идет о создании субъективного обзора Интеллектуальной Комедии современного разума. Ни один человек не в состоянии сделать такой обзор всесторонним. К концу девятнадцатого столетия все, что содержалось в толстенных романах бальзаковской Комедии, сжалось до рассказов Чехова, создавшего русскую «Человеческую комедию». А теперь такую неохватную задачу никто не осилит. Я никогда не пытался писать романов, у меня совсем другие художественные задачи. И не те, что у Уайтхеда[128] в «Приключениях идей»… Сейчас не время объяснять это. Как бы там ни было, я заболел этой идеей еще совсем молодым. И именно Гумбольдт дал мне почитать Валери[129], который внушает такие идеи. Валери пишет о Леонардо: «Cet Apollon me ravissait au plus haut degrй de moi-mкme". Я тоже восхитился, и навсегда — возможно, потому что моему уму это не под силу. Но Валери добавляет замечание в скобках: „Trouve avant de chercher“. Вот это „Найти прежде, чем искать“ и стало моим особым даром. Если, конечно, у меня был хоть какой-то дар.