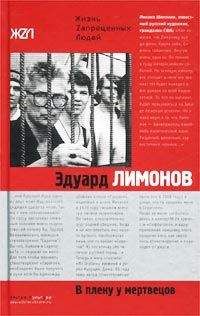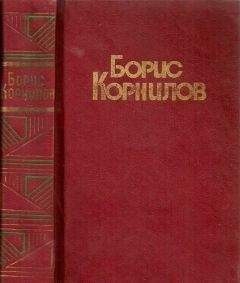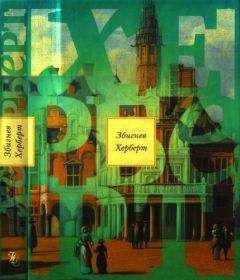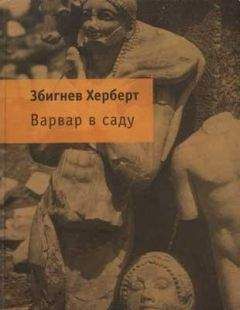Дон Делилло - Космополис
Он почти дошел до служебного выхода, когда сообразил, что Данко с ним нет. Это он понял. Телохранитель остался где-то позади, танцевал, до него уже не дотянуться его, Эрика, войнам и трупам, его снайперам разума, что стреляют на самой заре.
Шаг за шагом он продвигался с Торвалем к машине. Дождь прекратился. Это хорошо. Явно так ему и следовало поступить. Улица несла на себе мерцание натриевых фонарей и настроение медленно развертывающегося напряжения.
— Где он?
— Решил остаться, — сказал Эрик.
— Хорошо. Нам он не нужен.
— Где она?
— Отправил домой.
— Хорошо.
— Хорошо, — сказал Торваль. — Хорошо все выглядит.
В лимузине кто-то расположился. Скособочилась на банкетке, задремывая, вся в тряпье и пластике, и Торваль погнал ее прочь. Она, слегка станцевав, вывернулась и осталась в совокупности — стоять грудой одежды, узлов с пожитками и бутербродных мешочков для милостыни, заткнутых за пояс.
— Мне нужна цыганка. Кто-нибудь может гадать по руке?
Из тех неиспользуемых голосов, что звучат вне мира.
— А по ноге? — сказала она. — Погадайте мне по ноге.
Эрик пошарил по карманам, нет ли денег, как глупо это, какая досада, он зарабатывал и терял суммы, которых хватило бы на колонизацию планеты, но женщина уже шла по улице в драных туфлях, подошвы хлопали, а в карманах брюк у него все равно ни монет, ни купюр, да и документов никаких.
Машина пересекла Восьмую авеню, из театрального района, от гирлянды вечерних клубов и салонов, заехала уже за розничные атрии, за конторы авиалиний и автомобильные демонстрационные залы, въехала в местное, смешанное, в преимущественно незаметные кварталы химчисток и школьных дворов, здесь остался лишь намек на прежний гомон, прежнее бурление и жар Адской кухни,[21] расчески пожарных лестниц на старых кирпичных домах.
Машин было не густо, но лимузин тащился не спеша, как весь день. Это потому, что Эрик сидел в кресле и разговаривал в открытое окно с Торвалем, который шел по тротуару рядом.
— Что мы знаем?
— Нам известно, что это не группа. Не организованная террористическая ячейка, не международная банда похитителей, которая будет требовать выкуп.
— Отдельная личность. Нам не все равно?
— У нас нет имени. Но у нас есть телефонный звонок. Комплекс анализирует речевые данные. К определенным выводам уже пришли. И проектируют порядок действий со стороны индивида.
— Почему эта тема не вызывает во мне любопытства?
— Потому что неважно, — сказал Торваль. — Кто бы это ни был, это он и есть.
С этим Эрик согласился, что бы оно ни значило. Они перемещались по улице меж рядами баков, выставленных для мусорщиков, мимо мрачного отеля и синагоги для актеров.[22] На улице стояла грязная вода — все глубже по мере их продвижения, уже четыре дюйма, осталась после прорыва водопровода днем. Из квартала еще не ушли рабочие в люминесцентных жилетах и высоких сапогах, под прожекторами, и Торваль на ходу высоко поднимал ноги, пробираясь через многолетние наслоения грязи, с каждым горьким шагом от него летели брызги, пока половодье не обмелело до дюйма стоячей воды.
Прямо впереди установили полицейские заграждения, перекрывая выезд на Девятую авеню. Поначалу Торваль полагал, что это из-за потопа на улицах. Но на другой стороне авеню бригады по расчистке не работали. Затем он решил, что в центр на какое-то официальное мероприятие едет президентский кортеж, наконец выпутавшийся из городских пробок. Но вдали играла музыка, начали собираться люди — слишком много, слишком молодые, в наушниках, вряд ли это ради проезда президента. Наконец Торваль поинтересовался у полицейского в кордоне.
Движутся похороны.
Эрик вышел из машины и встал у велосипедного магазина на углу, Торваль занял позицию неподалеку. Сквозь густевшую толпу к ним пробирался гигант — широкий, мясистый, мрачный, в бледных льняных штанах и черной кожаной рубашке-безрукавке, тут и там — платиновые аксессуары. То был Козмо Томас, менеджер дюжины рэперов, некогда совладелец конюшни скаковых лошадей вместе с Эриком.
Они обменялись сложным рукопожатием и полуобнялись.
— Зачем мы здесь?
— Не слыхал?
Эрик сказал:
— Что?
Козмо постукал себя кулаком в грудь, почтительно.
— Братуха Феск.
— Что?
— Помер.
— Нет. Что. Не может быть.
— Помер. Умер. Сегодня утром.
— Я этого не знаю?
— Похороны идут весь день. Родня хочет дать городу возможность попрощаться. Лейблу надо поэксплуатировать событие. Крупно и громко. Улица за улицей. Всю ночь.
— Я этого не знаю? Как такое возможно? Я люблю его музыку. У меня его музыка в лифте играет. Я знаю этого чувака.
Он знал этого чувака. Печаль, заунывность его замечания слышалась в самой музыке — в духовных импровизациях и ритмах, напоминающих каввали,[23] которым больше тысячи лет, они звучали все громче, похоронная процессия приближалась по авеню, которую расчистили от постороннего движения и запаркованных машин.
— Что, его застрелили?
Сначала взвод мотоциклистов — городская полиция клином. Следом два фургона частной охраны, по бокам полицейской патрульной машины. Все было до того ясно, еще один мертвый рэпер, как полагается звезде рэпа — упасть, мурлыча мелодию, под градом пуль за то, что не уплатил феодальную дань в виде уважения, или денег, или женщины какому-нибудь сомнительному типу. В такие дни, разве нет, влиятельные люди вдруг кончают очень плохо.
Козмо глянул косо.
— У Феска уже много лет проблемы с сердцем. Еще со старших классов. Ходил к специалистам, советовался со знахарями. Сердце просто не выдержало. Он тебе не громила в темном переулке. Его ни разу в жизни не заставляли дуть в трубочку, ну почти — с семнадцати лет.
Следом ехали машины с цветами — десять, заваленные белыми розами, которые трепетали на ветру. Следом — катафалк, открытая машина, Феск лежал в кузове при полном параде в гробу, приподнятом, чтобы всем было видно тело, повсюду асфодели, мясисто-розовые, цветы Аида, куда души мертвых отправляются отдыхать в лугах.
Усиленный голос покойника раздавался откуда-то из хвоста процессии — пел медленными гипнотическими синкопами под аккомпанемент фисгармонии и таблы.
— Надеюсь, ты не разочарован.
— Разочарован.
— Что нашего не застрелили. Надеюсь, он тебя не подвел. Естественная причина. А это облом.
Козмо ткнул большим пальцем куда-то за спину.
— Что с твоей тачкой? Позволяешь хорошей машине разваливаться на людях. Стыд и позор, чувак.
— Все стыд и позор. Умереть — стыд и позор. Но все мы это делаем.
— По ночам я слышу голоса. Потому что знаю, ты так говорить не можешь.
У лимузинов шли десятки женщин в платках и джеллабах, все руки в хне, босиком, выли. Козмо опять стукнул себя в грудь, Эрик — тоже. Ему казалось, что друг его внушителен в своем покое: окладистая борода, белый шелковый кафтан с откинутым капюшоном, на голове — культовая красная феска, стильно надетая набекрень; как трогательно, что вот человек лежит, обернутый спиралями собственных вокальных интерпретаций древней суфийской музыки, — он исполнял рэп на пенджаби и урду, а также на развязном уличном английском черных.
Влезть под пулю просто
Семь раз вставал я к краю
А теперь поэтом стал
И рифмы подбираю
Толпа большая и притихшая, у тротуаров она уплотнялась, а из окон квартир смотрели люди в ночном белье. Катафалк сопровождали четверо личных телохранителей Феска — они шли медленным маршем у четырех углов машины. Одеты по-западному, темные костюмы и галстуки, начищенные «оксфорды», боевые автоматы — в положении «на грудь!».
Эрику понравилось. Телохранители даже после смерти. Эрик подумал: во.
Следом двигались брейк-дансеры — в отглаженных джинсах и кедах, подтверждая собой историю жизни покойного, урожденного Реймонда Гэзерса из Бронкса, некогда знаменитого танцора. То были его сверстники, шесть человек растянулись по шести полосам движения, всем сильно за тридцать, они вновь вышли на улицы через столько лет — вертеть гелики и бочки, невозможно вращаться по осям на голове.
— Спроси, люблю ли я эту срань, — сказал Козмо.
Однако энергия и блеск сообщали толпе некоторую меланхолию, больше сожаления, нежели возбуждения. Даже те, кто помоложе, казались подавленными, слишком уж почтительными — а брейкеры вертелись на локтях, размахивали телами параллельно земле, охваченные горизонтальным неистовством.
Скорбь должна быть могуча, подумал Эрик. Но толпа еще только училась скорбеть по такому уникальному рэперу, как Феск, который смешивал языки, ритмы и темы.