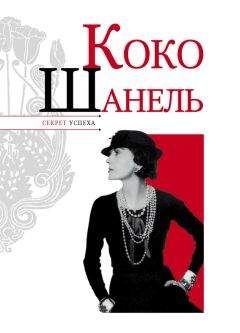Эдуард Лимонов - Контрольный выстрел
В двери моей камеры захрустел ключ. Пришли забирать на прогулку. Я передвинул кнопку телевизора и убрал Ренегата с экран.
Вечером показали убогий 13-ый съезд ЛДПР. В каком-то зальчике. Телеоператор снимал сцену сзади: видны были только лысины. Состарились элдэпээровцы или старых в состав набрали. Показали помятого Жирика. Наглый и заискивающий одновременно, Жирик объявил, что ЛДПР приняла новые установки: она отказывается от анти-американизма, от антинатовской позиции. То есть теперь даже стёба не будет, потому что, конечно же весь антиамериканизм Жирика был только словесным поливом. Бедный жирный Митрофанов что же он теперь будет говорить, у него забрали весь его репертуар, право поливать Америку… Теперь у партии в строю остался только дед Щукарь — Жириновский в его амплуа характерного актёра, всем надоевшего, но с ним свыклись и привычно смеются одному его уже появлению. Немноголюдный съезд старых проигравшихся во всю дядек — зрелище печальное, зрелище поражения, разгрома. Геморроидальные ребята с шагреневыми лицами…
За десять лет на моих глазах совершилось превращение живого в мёртвое. Я встретил этих людей в феврале 1992 года (я тогда встретил всех актёров будущего российского спектакля) — горящих, живых, захваченных процессов революции. ЛДПР помещалась в бытовой коммуналке на Рыбниковом переулке, стёкла в окнах были кое-где выбиты и заделаны картоном. Люди сидели в пальто. Люди были чудовищные, уже тогда множество прощелыг, но бегал энергичный Архипов, весёлый Жариков разглагольствовал в треухе. Безумный Жириновский Джокондой в бронежилете оскорблял японских журналистов и угрожал им ядерной бомбой, грея зад у единственного калорифера. Всё было внове. Неизвестно как должно было быть. Я пошёл с ними рядом и прошёл до тех пор пока не обнаружил скучный обман. Потом пошёл своей дорогой. В декабре 1993 года, они, ни в чём не участвовавшие, не подставляющие себя в событиях октября (я подставлял вовсю, в полный рост и у мэрии и у Останкино), за хорошее поведение были допущены царём Додоном к выборам и выиграли на выборах! Неожиданно для самих себя! (Они уже хотели самораспускаться. Весь 1993 год было не до них. К ним никто серьёзно не относился.) И вот выиграли, семьдесят депутатов от ЛДПР пошли в Думу! Охрана, шофёры, кого только не подписывали, людей-то не было! Потому что избиратели — народ хоть таким образом хотел насолить власти, устроившей кровавую бойню в центре Москвы, показать ей задницу этой власти, вот и показал: ЛДПР. Задница народа. И тут Жирик обнажил свою морду ХАМА. "Я хам! я хам!" — кричал он. Пьянствовал, толкался, икал, рычал, ликовал, вёл себя как лох и мудак. Ссорился, таскал за волосы, давал себя снимать с беременным волосатым животом, кемарящим пьяным сном на даче, только что не срал перед телекамерой, а помимо этого делал всё. Кроме того он позволил власти иметь своих депутатов куда она только хочет. Поливом, брюзжанием, криком, он отвлекал внимание народных масс, срывал аплодисменты, а фракцию ЛДПР заставлял голосовать как власть того хочет. Сто процентов раз ЛДПР голосовала за законы, предложенные властью.
И так он пришёл к 13 съезду. С жёваной мордой обрюзгшей проститутки. Я предполагаю, что будет справедливо если он умрёт от запора. Я молю об этом провидение. Удостой его заслуженной смерти!
В 1994 году я написал о нём книгу "Лимонов против Жириновского". Я ему сильно польстил тогда.
Так что я сподобился увидеть 14 декабря, в день восстания, двух декабристов, двух бывших можно сказать «революционеров», а ныне через десять лет две циничные человеческие оболочки.
В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
Барская усадьба с комнатами, целый дворец с комнатами собственно, стоит на Волхонке и небольшой парк разбит перед фасадом. Чугунная решётка в рост человека. Летом в этом квартале необычный запах — смолистых (?) из парка. Совсем не русский запах. Смола растапливается в короткую московскую жару и заставляет верить, — ты в Италии. Рядом, если спуститься по короткой улице Ленивке — набережная Москвы-реки. На той стороне — дом на набережной. Там недолго работала в одном модном журнале моя подруга Лиза в 1997-ом. Я попал в музей кажется ещё в первый свой приезд в Москву в 1966. Лене было 23 года и я приехал из Харькова вместе с художником (??) завоёвывать Москву. Обстоятельств, при которых я оказался в музее, не помню (ну, наверное нормально повели провинциала блеснуть сокровищами). Помню внутренности музея, где был гардероб, помню, мумию сигарного цвета с двумя кокосовыми, удивительно свежими зубами. Помню синие (?) перед музеем и табличку на которую мне указали сообщив с уважением "Музей основал и был первым директором — отец Марины Цветаевой". От Марины Цветаевой и её ритмических (?) я не был в восторге, так что рекомендация была плохая.
Живя впоследствии в Москве, я туда довольно часто наведывался. Вероятнее всего я ходил туда, как верующие ходят в церковь, я веровал в искусство и мне было хорошо быть среди предметов искусства, среди запахов моего культа: старой краски, старых холстов, камня, гипса и дерева. У них, помню, были выставлены тогда во множестве залов импрессионисты и пост-импрессионисты и даже фовисты с Матиссом во главе. Вот только не помню, их это была постоянная экспозиция тогда или сборная холстов со всей России… Висело много хороших, но несколько однообразных Клодов Моне, была парочка Эдгаров Мане, были великолепные Ван Гоги, уступающие им тёмные Гогены, была пара-тройка холстов таможенника Руссо, неправдоподобный Леопард, человек играющий в гуще джунглей на волшебной флейте — анаконды и кагуары в чаще. Если не ошибаюсь, был даже Одилон Редон, — глаз, парящий над городом как воздушный шар на ниточке. Менее всего мне понравился Матисс — ярко-красная разварившиеся сосиски людей, стоймя водившие хоровод на сплошной зелени. Против всех других картин Матисс смотрелся как халтура, неоконченный подмалёвок. "Щукин зря купил эту мазню" — помню сказал я кому-то, сопровождавшему меня, чьё имя не сохранила История.
Каждый раз возвращаясь из музея в свою убогую комнату, я аккуратно доставал чешский словарь современного изобразительного искусства и сверял имена записанные мною в музее художников со словарём. Это было уникальное в своём роде издание, где каждая статья о художнике была сопровождена иллюстрацией хотя бы одной его работы, и большинство иллюстраций были цветными. Словарь был подарком моей подруги Анны, мы привезли его из Харькова. Этому великолепному чешскому пособию я был обязан тем, что неплохо знаю современное искусство вплоть до третьеразрядных его представителей. Скажут "Густав Климт", я знаю, кто это. "Берта Моризо" — а я знаю. В словаре были и сюрреалисты и абстракционисты и все кто чем-либо запомнился в современном искусстве. А ещё словарь этот был как Евангелие от Искусства, переворачивая благоговейно страницы, я вдохновился святыми людьми искусства и мечтал стать столь же прославленным и почитаемым как они. Где-то там на словаре осталась моя гордая клятва красным шариком: "Клянусь стать таким же Великим, как эти гении искусства. Э. Лимонов" Надпись была более претенциозной и пышной и сентиментальной, я уверен, но суть сводилась именно к претенциозной цели: таким же Великим… Нет, я не собирался стать художником, но я клялся искусством, а для меня изобразительная часть нашего общего айсберга была ярко зримой, ей легче было поклоняться, чем литературе, вот я и поклонялся.
В музее на Волхонке было тепло, советские батареи грели ровно настолько, насколько было необходимо, паркетно-жёлтые полы были покрыты лаком. Хорошо, хотя и утомительно (запах краски быстро утомляет — поверьте!) пахло холстами и старой краской. В то время когда грязные и неуютные московские улицы или трескались от морозов или просачивались от дождей. Я плохо ел в те годы, и потому чувствовал себя на улице неуютно. К тому же яркие южные импрессионисты и пост-импрессионисты, волшебные закорючки Ван-Гога создающие иллюзии напряжённого южного неба, экзотический тропический Руссо, душный провансальский Сезанн, создавали особый жаркий мир искусства, прямо противоположный миру мёрзлой некрасивой Москвы (так и звучит в ушах ласковый голос Андрюшки лозина, юного московского пуантилиста 60-х годов: "Вот и Сезанчик, Эд, полюбуйся, вот вид на гору Сан-Виктуар" уже через 12 лет после этого восклицания Андрюшки в музее имени Пушкина, я буду карабкаться в августе 1980 года на гору Сан-Виктуар тяжело дыша и отплёвываясь, вместе с Жюльеном Блейном, французским поэтом перформанса, перед самой грозой! На полотне к которому призывал меня Андрюшка был вид "вид горы Сан-Виктуар перед грозой!") Так что я туда прятался, в музей.
Помимо залов импрессионистов, я часто посещал Египетский зал. Вот не помню, были ли тогда уже установлены умелые подсветки, которые позднее превратили Египетский зал в место жительства иллюзиониста. Но помню, что мелкие поделки ювелирного свойства, фигурки богов, украшения, не вызывали во мне особого изумления. Зато я при каждом посещении неизменно шёл в угол зала, где почивала в своих бурых марлях сигарного цвета мумия. Вот она вызывала во мне священный трепет. Само «Время» лежало передо мной ссохшееся в стеклянном ящике. Я с изумлением рассматривал волосы мумии и эти её зубы. А за окнами мела пурга и было непонятно, почему мы, русские, живём тут ыв ссылке, на совсем неподходящей для жизни территории. И был ещё тут один зал который я посещал с удовольствием. Это зал где висели голландские натюрморты. С явным удовольствием написанные, все эти жирные подбрюшья селёдок на серебре, тонкое плетение нитей столовых салфеток, крошки и ломти хлеба. Я недоедал в те годы постоянно, и представлял должно быть любопытное зрелище, когда стоял перед этими картинами: обильно заросший волосами разночинец в потрёпанном чёрном костюме (костюм остался от лучших времён когда я работал сталеваром в Харькове) и хлопчатобумажном свитере под горло, плюс интеллигентские очки в тонкой круглой оправе. Было беспощадно ясно, что человек хочет есть и стоит забывшись натюрмортами, изображающими еду, как перед витриной продовольственного магазина.