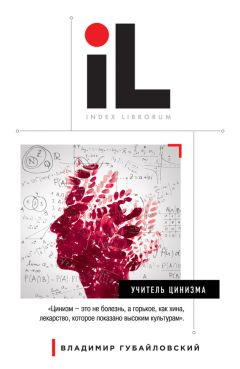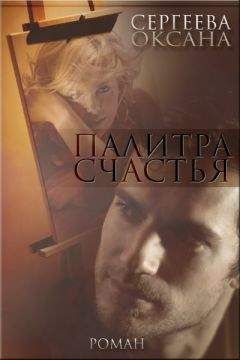Эрленд Лу - Допплер
Но господин консерватор взирает на меня как на оракула. И не замечает, что я фактически пытаюсь выжить его. Слишком я мягкосердечен, видно.
Стандартная беседа с господином консерватором растягивается на несколько дней и проходит по типовому сценарию:
День 1:
Я занят, к примеру, работой над столбом. Он подходит беззаботной походкой и встает рядом. Я молчу. Продолжаю махать топором. Он некоторое время тихо наблюдает, потом заводит беседу.
— А вот скажи, Допплер, что ты видишь во мне хорошего? Что бы ты перечислил, например, пастору, которому предстоит сказать над моим гробом последнее слово?
Я на секунду прерываю работу и задумываюсь, что бы такое ему ответить и как бы заставить его поскорее убраться.
— Я тебя почти не знаю, — отвечаю я. — А то немногое, что я успел о тебе узнать, не обнадеживает.
— Совсем не обнадеживает? — спрашивает господин консерватор.
— Конечно, ты не стал, — тяну я, — устраивать спектакль из своего ранения, а также сбежал из города в лес, что, вероятно, можно отнести к положительным моментам. Но тот факт, что ты поставил палатку у меня под носом, сводит все твои достоинства на нет, так что общий баланс не в твою пользу.
Постояв некоторое время, он уходит к своей палатке.
День 2:
Сцена та же. Я работаю, он подходит.
— Я обдумал то, что ты сказал вчера, — говорит он. — Что во мне нет ничего хороше-го. Ты прав. Я ничто. Ничего хорошего во мне нет. Я попусту растратил свою жизнь.
— Не сгущай краски, — говорю я. — Просто у тебя скверно на душе, вот и все. Наверняка у тебя масса талантов, способностей и уникальных дарований. Но лес, вероятно, не то место, где ты можешь их проявить.
Он уходит к своей палатке.
День 3:
Я еще завтракаю, он появляется раньше обычного, сияя как масляный блин.
— Я обдумал твои вчерашние слова, — говорит он. — Что я самобытная личность и у меня таланты и всякое такое. Но ведь и ты тоже самобытен. Оба мы с тобой неповторимы. Всякий человек уникален.
— Более или менее, — отвечаю я. — Но самобытный означает только не похожий на других. Это не значит хороший.
День 4:
Он приходит, когда я писаю.
— Я обдумал твои слова, что самобытный еще не означает непременно хороший, — говорит он.
Я продолжаю писать.
— Ты прав, — говорит он. — Какая польза в неповторимости, если ты поступаешь плохо?
— Само по себе ничто не бывает ни плохим, ни хорошим, — говорю я. — Все зависит от того, кто и где ты есть.
Он уходит, чтобы вернуться через час.
— Я размышлял над твоими словами, что нет ничего изначально плохого или хорошего, — заявляет он. — Наверно, ты прав. Все зависит от ситуации.
И дальше в том же духе. Бедняга потерян. Даже не знаю, как ему помочь. Но все это несносно, совершенно выбивает из колеи. А душа за него болит. Этот злополучный сторонник правых, сколько себя помнил, не радел ни о чем, кроме земных благ и незыблемости устоев, и вдруг решил пойти против течения, но никто из его окружения не оценил его поступка и не смог оказать никакой поддержки. Это все равно что взрослому дяде превратиться в подростка. Вдруг раз — и сам больше не понимаешь, кто ты теперь такой. И тело кажется чужим. Ужас. Только человек дослужился до каких-то чинов, нажил имущество — и на тебе: все это в одночасье потеряло в его глазах смысл, но и стать как по мановению другим ему не дано, потому как из песни слова не выкинешь. Что было, то, черт возьми, было, и этого не отменишь. Я и сам в том же положении, просто не вызываю такой жалости, как наш господин консерватор. Впрочем, как знать?
И не один только он нарушает мой покой. Грегус тоже здесь. Уже пару недель как. Он совершил побег из детского сада, но был замечен на подступах к опушке леса. К этому моменту он преодолел примерно километровую полосу вилл. Полиция настигла его и отвезла домой. Где он устроил форменное светопреставление: требовал во что бы то ни стало отправить его в лес, ко мне и Бонго. Моя жена, уже с торчащим животом, заставила своего брата, моего то есть шурина, встать на лыжи и притащить мне сюда Грегуса на санках, и теперь он тут и радуется жизни. Так хорошо ему еще никогда не было. Трогательно, с каким терпением он помогает мне в работе. Поэтому мы посовещались, подумали и решили, что он тоже станет частью тотема. Он будет венчать его, сидя на спине Бонго. Я уже даже нарисовал контур. Надеюсь, получится хорошо. Грегус станет гармоничным и символическим завершением всей конструкции. Три поколения Допплеров. И Бонго. Воистину величественная композиция. Потомки, проходя мимо, будут с почтением преклонять голову и думать про себя, что когда-то Допплеры были о-го-го. Особенно если следующие поколения Допплеров измельчают, а я сердцем чую, что измельчают. И я окажусь эдаким эталоном качества всего древа Допплеров. Это я-то. Который даже людей не любит. Я и к присутствию Грегуса отношусь двояко: радуюсь, но и скучаю очень по одиночеству и всерьез страдаю из-за того, что затворничеству моему пришел конец. Как будто мало мне было сложностей с господином консерватором!
Не удержался от участия в общем параде-алле и Дюссельдорф. Он приходит сюда на лыжах несколько раз в неделю и нередко остается на ночь. С тех пор как во «Всей Норвегии» показали репортаж о нем, Дюссельдорфа мучает подозрение, что он продал себя слишком дешево. Он чувствует, что жизнь его более сложна и менее однозначна, чем предстала в пятиминутном репортаже. «Всей Норвегии» не удалось копнуть глубоко. У них получился рассказ о создателе макета, а не о сыне, выросшем без отца. Такой стандартный, в духе «Всей Норвегии» репортаж скорее про несколько необычное хобби, чем про самого человека.
Бедный Дюссельдорф. Мне искренне его жаль. У меня не хватает духу сказать ему, что мне хочется побыть одному. Я даю ему коврик и шерстяное одеяло и сижу далеко за полночь, слушая его рассказы. Сам я тоже высказываюсь. Можно сказать, мы обмениваемся опытом. Опытом того, каково быть нами. Он для меня — самое близкое подобие друга, хотя лучше б его здесь не видеть.
А если к нам еще присоединяется и господин консерватор, то вечер приобретает особую пикантность. Наш господин взахлеб поет о своем фестивале примирения, мы прозрачно намекаем, что нам это абсолютно безразлично. Поезд ушел, говорю я. И пусть приверженцы разных религий и дальше друг друга гнобят, преследуют и взрывают. Расслабься и подумай о чем-нибудь другом. Но господин консерватор живет идеей братания, его рвение сравнимо разве что с преданностью моей дочери Толкиену. Он одержим мыслью взять реванш. Он жил по-дурацки, скользил по поверхности, а теперь должен впечататься мордой в дно, чтобы все исправить.
Потом мы играем в лото. Грегус засыпает у края саамской палатки, у входа лежат, спутавшись в клубок, Бонго и собака господина консерватора, а мы с ее хозяином и Дюссельдорфом играем при свете костра в лото с животными. Я чувствую себя вожатым скаутов.
К слову говоря, Бонго и эта псина женихаются вовсю. Они неразлучны, всюду ходят парочкой и, есть у меня чувство, хотят завести ребенка. Судя по виду Бонго, он влюблен без памяти и витает где-то на седьмом небе, так что у меня просто язык не поворачивается объяснить ему, что его подружка — собака, а вовсе не лосиной породы.
Среди всей этой кутерьмы работа над тотемным столбом мало-помалу продвигается вперед. Мы дошли до рук отца. Их нужно вырезать и приставить к телу. Я даже в общих чертах незнаком с этой техникой и вынужден несколько раз все переделывать, пока мне удается добиться отдаленного сходства и мой отец обретает коротенькие, смахивающие на крылышки ручки, из-за своей явной бесполезности только для тотемного столба и пригодные. Как и вся его жизнь, думаю я. От отца, как и от большинства из нас, пользы не было никакой, так что тотемный столб представит его в самом, возможно, выигрышном свете. Здесь я перед его непрактичностью преклоняюсь. Это ей я ставлю монумент.
Дюссельдорфа, и так пребывавшего в расстройстве, окончательно доконал звонок отца исполнителя гимнов. Он пригрозил заявить в полицию, если Дюссельдорф еще хоть раз позвонит мальчику. О поездке на кораблике ему лучше забыть и никогда не вспоминать. Об этом и речи не может быть. Размечтался, старая скотина, кричал возмущенный отец. Ты и мой сын в тесной каюте, вдвоем, а кругом лишь высокие горы да глубокие фьорды. Дюссельдорфу не удастся вставить ни слова, к нам после этой беседы он приползает растоптанный и раздавленный.
— Мир дышит злобой, — говорю я, — раз в нем человека искреннего, с благими порывами с ходу объявляют извращенцем, и не дают оправдаться, и не верят в невинное дружеское расположение, а отчего-то подозревают всякую гадость. Так быть не должно.
— Не должно, — отвечает Дюссельдорф, — но есть.
— Да уж, — говорю я. — Человек человека съест и не заметит.
— К чему это ты? — спрашивает Дюссельдорф.