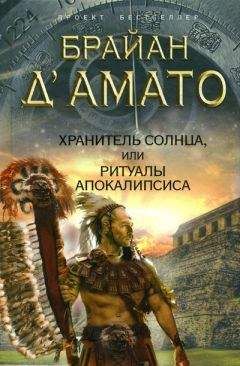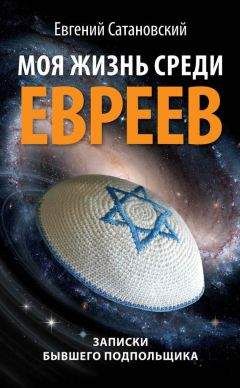Уве Тимм - Ночь чудес
— Мне не хотелось бы, чтобы вы сочли меня навязчивым, но, может быть, вы позволите позвонить вам? Я хотел бы послушать одну из ваших историй.
Она посмотрела на меня в упор. Голубые глаза, зрачки казались совсем темными. Я поднял бокал и притворился, будто внимательно разглядываю остаток медово-желтого вина, а сам опять скосил глаза на ее ноги. Светлый пушок на них снова поднялся дыбом, заметны и мурашки на нежной коже — крохотные светлые точки на загорелых ногах, они доходят до самой юбки, вернее, узкой черной полоски, которая видна. Она перехватила мой взгляд и засмеялась:
— Знобит, но я бы не сказала, что это неприятно! — Она запахнула куртку, футболка с красной звездой «Тексако» скрылась под черной кожей. На колене — очень узком и изящном — у нее шрам, тонкий, светлый и длинный, сантиметра три. И вдруг, поддавшись невольному порыву, я притрагиваюсь к шраму — она едва заметно вздрагивает, и я поспешно спрашиваю подчеркнуто деловым тоном:
— Где вы так поранились?
— А-а… да в детстве однажды упала, ударилась о поребрик тротуара. Ничего трагического. — Она сует пачку сигарет в карман. — Холодно. Давайте рассчитаемся. Так и быть, сделаю для вас исключение, дам вам мой рабочий телефон. Обычно я не даю этот номер знакомым. Позвоните. Сегодня вечером. Сегодня сумасшедший день.
— Почему?
— Самый длинный день в году. — Она смотрит мне в глаза. — И самая короткая ночь. Сегодня все с ума сходят. И никто не может понять, в чем дело. Погоду винят. Ерунда. Сегодня утром булочник сказал, что заснул возле печи. Показал мне сгоревшие булки, целую корзину. А турок, портной, он старую одежду перелицовывает, живет в моем доме на первом этаже, так вот, этот турок сегодня вдруг заревел будто горилла. Просто взбесился. Я — бегом вниз. Смотрю, его дочка стоит на улице, чадру сорвала с головы и говорит: «У меня есть друг, немец, он пастор, протестант. Ухожу жить к нему». Папаша ревет белугой, того и гляди стены обрушатся. Ну и что? Дочь спокойно ушла, сунула чадру под мышку, и гуд бай. А с утра позвонил мой бывший муж, давай, говорит, начнем все сначала. Совсем свихнулся. Мы с ним четыре года прожили. Потом я ушла, год назад, нет, больше уже. Мы остались друзьями, и вот на тебе, звонит и плачет. За все четыре года ни разу не слышала, чтобы он плакал. Говорит, не записывай, пожалуйста, не надо. А я уже записала, ну, стерла, значит. Хотя потом жалела, что стерла. Тихий такой плач, очень сдержанный, можно сказать, одухотворенный, мне даже строчка из Бенна вспомнилась: «Более одинок — никогда». Или это из Стефана Георге? [12] Но я сказала: нет. Четыре года мы с ним прожили. А потом просто невозможно стало. Близость стала невозможна. Вот и подруга моя ровно через четыре года развелась. Это во втором браке, а в первом браке ее тоже на четыре года хватило. Существует четырехлетний цикл. Подруга прочитала недавно в одном журнале, что ученые обнаружили в человеческом организме гормон, который задает этот четырехлетний ритм. В течение четырех лег гормон вырабатывается, и все идет прекрасно — эротическое влечение к партнеру не ослабевает, все в полном порядке. В сущности, ведь как раз четыре года нужно женщине, чтобы зачать ребенка, выносить, родить, выкормить и отнять от груди. Вот так-то. Из-за гормона мы ищем близости или храним верность партнеру, его сексуальная привлекательность обусловлена гормональным механизмом. А потом гормон перестает вырабатываться железами, или он через четыре года начинает вызывать влечение к другому партнеру. Нет влечения — остается один секс. Первое время приходится себя уговаривать, потом принуждать к сексу — или быть равнодушной и смириться.
— Мне всегда казалось, дело в другом. В том, что мы перестаем расти в глазах партнера, то есть перестаем быть тем, кем могли бы для него быть. Ведь притяжение возникает, только если есть развитие, рост — как у деревьев. Ботаникам хорошо известно, что для любого роста необходимо исходное хаотическое состояние. Когда же все упорядочено, рост прекращается, иначе говоря, исчезает тайна.
— Вот именно. Гормон останавливает этот, как вы сказали, рост. Пожалуй, можно и так назвать. Вдруг всему настает конец — ни безмолвной тоски, ни буйств, ничего.
— А вы не хотите написать обо всем этом? Вы ведь так много знаете.
— Нет, не хочу. Писать работу на степень магистра — и то была мука. Да и зачем писать, если рассказывать гораздо проще? Нет, писать — скучное занятие. Но я ведь уже сказала — я собираю голоса, коллекционирую. Записываю на пленку. Уму непостижимо, какие у людей бывают желания, какие идеи у них рождаются, кто-то говорит о них шепотом, кто-то вопит во всю глотку. А я просто помогаю людям высказаться, ведь им надо высказаться, позарез надо, я выслушиваю что-то вроде сексуальных исповедей, но не о том, что они совершили, а о том, чего им хочется, такие вот славненькие грязные мечты. Освещаются самые темные, самые сокровенные закоулки человеческой фантазии. И это меня возбуждает. Отсюда мой успех. Я не просто наговариваю нужные тексты, понимаете? Я помогаю их фантазии вырваться на волю. Им нужен человек, который их направит. Почитайте-ка объявления в газетках вроде «Привет» или «Ты и я», у них там рубрика «Жесткие штучки». Понятное дело, не всем клиентам нужны жесткие, но всегда требуется какой-нибудь особый выверт. Полнейший бред! А где он? Вот здесь. — Она постучала пальцем по своему, потом — по моему виску, легко, точно птица коснулась крылом. — Вот где это гнездится. Я дам вам свой номер. Между прочим, меня зовут Тина.
Глава 9
БОЯЗНЬ ГЛУБИНЫ
В пансион я вернулся в начале девятого. В комнатах телефонов нет, если хочешь позвонить, надо спускаться в салон — столовую.
Пока ехал в метро, пытался убедить себя, что звонок не принесет ничего, кроме неприятностей, хотя бы потому, что в комнатах, прилегающих к салону, отлично слышно, когда кто-нибудь говорит по телефону. Но, приняв твердое решение не звонить, я в ту же минуту понял, что позвоню. Подумал: ведь случай просто уникальный, ты узнаешь, что это за штука такая — секс по телефону. Подобные знания могут пригодиться, ты же писатель. И все-таки больше всего мои мысли занимал легкий светлый пушок, который от холода вставал дыбом. В салоне я сел в углу — подумал, может, мой разговор будет не так слышен в соседней комнате, — и набрал номер; он начинался с нуля. Раздалось два гудка, затем я услышал: «Ваш разговор оплачивается по специальному тарифу». И тут же раздался голос Тины:
— Алло, это ты?
— Да, — сказал я. — То есть если вы имеете в виду меня… Мы обедали в греческом…
— Конечно, я имею в виду тебя. Я ждала твоего звонка, об этом ты мог бы догадаться хотя бы по тому, что я отключила свой фирменный акустический сигнал. Ты удобно сидишь?
— Ничего.
— А ты не можешь лечь на кровать?
— Нет. Тут, в пансионе, телефон всего один, и он в столовой.
— Жаль, — сказала она. Звук «ж» мягко коснулся моего уха, точно нежные губы. — А мне с моей кровати видна телебашня, она подсвечена и отсюда кажется миниатюрной копией Эйфелевой башни.
— Да, конечно, подсвечена, ночью подсвечена… и когда лежишь в постели… ну да. Но днем эта телебашня больше всего напоминает мне штуковину из детских конструкторов. Все же есть разница — строится башня только для трансляции радиоволн или ради воплощения мечты.
— Мечты? Какой?
— Эйфель мечтал любоваться Парижем, сидя в ванне.
— Знаешь, что меня удивило, когда я в первый раз тебя увидела?
— Что?
— Твоя смешная прическа. По правде говоря, она тебе не идет. Стрижка ступеньками, да еще по косой…
Я засмеялся. Но смех получился вымученный, чуть ли не рыдающий.
— Нет, нет, она мне очень понравилась, честно! — Все-таки пожалела меня. — Ты не можешь забрать телефон к себе в комнату?
— Нет. Жаль, но не получится. Шнур короткий.
— А там, где ты сидишь, можно разговаривать спокойно?
— Да в общем… — Я понизил голос. — В общем, соседям, конечно, здорово слышно.
— Жаль, — снова сказала она. — Я хотела говорить совершенно без стеснения. Я вот что хотела сказать… Ты сразу вызвал у меня любопытство, очень сильное любопытство, сразу, когда позвонил. Мне нравится твой голос. А для меня это очень важно, знаешь, голос — это вообще самое главное, для меня голос важнее всего, чтобы я кем-то заинтересовалась, понимаешь, не только как человеком, но и как партнером. При этом мне не обязательно видеть того, с кем говорю, — в ушах звучит голос, и, если он мне нравится, меня прямо насквозь пробирает. Конечно, важно и то, что говорится, но главное все-таки звучание, мелодия. Иногда мне звонит один медик, профессор анатомии, так вот, он однажды объяснил, в чем тут дело. У нас в ухе есть две таких маленьких мышцы, их функция долгое время оставалась неизвестной. Потом установили, что они усиливают оттенки звука и при этом сокращаются. Звук входит в тебя, и эти мышцы закрываются и раскрываются, усиливая приятное ощущение. Когда я об этом узнала, то поняла, почему так люблю слушать, вернее, почему так приятно, когда у голоса есть определенный оттенок, возникает приятное ощущение, щекочущее, и оно пронизывает меня насквозь, вот как твой голос. У тебя спокойная интонация, и гласные звучат как надо.