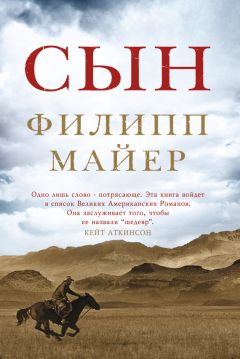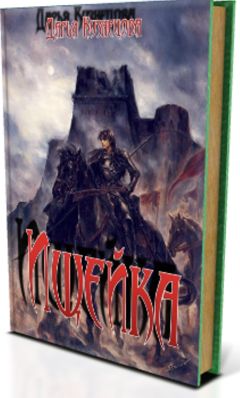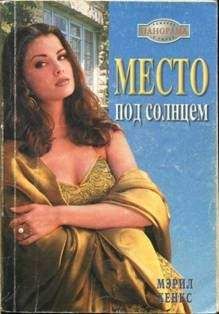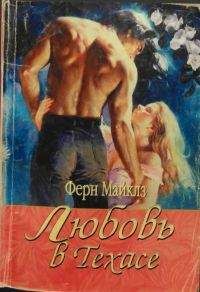Филипп Майер - Сын
– Что будет, если кости так и срастутся?
– Будут проблемы с рукой, – пожал плечами Гильермо. – Но рана действительно плохая, вот эти темные пятна надо удалить.
– Иначе я потеряю руку? – Голос дрогнул, и внезапно я увидел Кэмпбелла, каким тот был на самом деле – напуганным двадцатилетним юнцом, но маска так же быстро вернулась на место.
– Постоянно присыпайте рану этим порошком. Когда он намокнет и станет липким, добавьте еще свежего. В ране всегда должен быть сухой порошок.
– Похоже на желтый сахар.
– Это смесь сахара и сульфамида.
– Обычный сахар.
– Надежное средство. Даже просто сахара было бы достаточно.
– Как-то это глупо выглядит.
– Делайте как знаете, мне все равно. Ваши товарищи в округе Старр убили моего двоюродного брата, в Браунсвилле – дядю и его сына, а я здесь, лечу вас.
– Ложка дегтя в бочке меда… – заметил Кэмпбелл.
– Скажите это Альфредо Серда, или Грегорио Кортесу, или Педро Гарсия. Или их женам и детям, тоже мертвым. Ваши люди явились сюда и мутят воду, потом приходит армия и наводит порядок. Но это очевидные вещи. Не предмет для дискуссий.
Кэмпбелл пошевелил пальцами, проверяя, может ли по-прежнему сжимать винтовку.
– А морфин у тебя есть? – спросил он у Гильермо, а мне сказал: – Мы не сможем вам заплатить за использование ранчо.
– Когда подойдет армия?
– Никогда.
– Что ж… один повстанец, один рейнджер.
– Именно так. Пока есть хоть один рейнджер.
Салли пришла в ярость, узнав, что я пригласил в наш дом всех городских мексиканцев, и тут же потребовала, чтобы я позвал к телефону Консуэлу. Я слышал, как она отдавала распоряжения Консуэле, чтобы спрятали все серебро и убрали подальше дорогие ковры. Потом Консуэла вернула трубку мне.
– Что с тобой происходит, Питер?
– Эти люди погибнут, если не дать им убежища.
Она молчала. Я попытался ее успокоить:
– С Гленном все будет в порядке.
– Ты не смеешь так говорить, – сухо бросила она. – Ты не можешь этого знать, тебя нет рядом с сыном.
Я надеялся, что мексиканцы переберутся к нам потихоньку, но в сумерках половина теханос, почти сто человек, потянулись в сторону ранчо – пешком, верхом, на машинах; они везли, тащили, толкали и тянули свое барахло – на повозках, тележках, тачках или просто на спине. Мидкифф и Рейнолдс без всяких просьб прислали людей, чтобы защищать мексиканцев. Чтобы защитить наше ранчо, поправил меня Полковник. Не будь идиотом.
Кэмпбелл лично явился проверить обстановку, привел еще восемь человек (хотя законного права привлекать кого-то у него не было) и, сильно прихрамывая, поплелся обратно в город, придерживая руку на перевязи. Он умудрился где-то раздобыть винчестер 351-го калибра, с которым можно управляться одной рукой. Я не стал расспрашивать, каким образом ему досталось это оружие. Мы заперли ворота ранчо, задвинули засовы, а Чарлз с вакерос окопались у дороги.
Десять
Илай / Тиэтети
1849 год
Команчи котсотека жили в долине реки Канейдиан, где заканчивается Льяно и засушливые равнины переходят в травянистые каньоны. Исторически их земли простирались до самого Остина; Тошавею права моей семьи были известны лучше, чем мне самому. Техасцы подписали договор, который гласил, что к западу от города не будет никаких новых поселений, но они были из той породы людей, что запросто нарушили свои обещания, когда те начали доставлять неудобства.
– Однажды появилось несколько домов, – рассказывал Тошавей. – Бледнолицые начали рубить деревья. Конечно, мы не возражали, как и вы не стали бы возражать, если бы кто-то вломился в ваш дом, распоряжался вашим имуществом, угрожал вашей семье. Но может, я чего-то не понимаю. Может, у белых другие порядки. Может, если у техасца отбирают дом, он говорит: «О, простите, что я построил этот дом, вижу, он вам нравится, так забирайте его вместе со всеми землями, которые кормят мою семью. А я ведь просто кахуу, мышонок. Позвольте, я покажу вам, где лежат мои предки, чтобы вы могли выкопать их и осквернить их могилы». Как думаешь, он так и сказал бы, а, Тиэтети-тайбо?
Это мое новое имя. Я покачал головой.
– Верно, – продолжал Тошавей. – Он убил бы людей, которые отобрали его дом. И сказал бы им: Итса не кахни. А теперь я вырву ваше сердце.
Мы валялись в тополиной роще над долиной Канейдиан. Трава здесь густая, бородач веничный и все остальное, что нравится лошадям, но ее здесь столько, что им вовек не съесть. Солнце садилось, сверчки пиликали на своих скрипках, птицы затеяли скандал в ветвях над нами. На нашем берегу камыш словно полыхал в закатном свете, а за рекой, дальше к югу, в той стороне, где лежали поселения белых, уже сгущалась тьма. Я вспомнил, как злился на брата, когда он читал при свечах и мне приходилось отправляться спать на улицу.
Тошавей продолжал рассказ:
– Но мы же не безумцы, мы помним, что эта земля не всегда принадлежала команчам, много лет назад мы отобрали ее у тонкава. Нам понравились эти места, мы перебили тонкава и захватили их владения… Теперь они считают нас тавохо, врагами, и убивают повсюду, где встретят. Но бледнолицые совсем другие, они забывают, что все на свете уже кому-то принадлежит. Они думают: о, я белый, значит, это должно быть моим. И ведь правда верят в это, Тиэтети. Ни разу не видел бледнолицего, который не удивился бы, когда его убивают. – Он недоуменно пожал плечами. – Я вот, если взял чужое, знаю, что в любой момент может прийти хозяин и убить меня, и знаю песню, которую спою, когда буду умирать.
Я согласно кивнул.
– Я что, сумасшедший, если думаю так?
– No se nada[41].
– Нет, я совсем не сумасшедший. Это бледнолицые безумны. Все хотят быть богатыми, и мы тоже, но бледнолицые не хотят признать, что разбогатеть можно, только отбирая у других. Они думают, если ты не видишь человека, у которого украл, или не знаком с ним, или он не похож на тебя, тогда это вовсе не воровство.
Медведь спустился к реке, стайка чирков устроилась у дальней запруды. Не прерывая плетения волосяного аркана, Тошавей произнес:
– Мууви[42].
– Мууви, – послушно повторил я.
– Я давно наблюдал за тобой, Тиэтети. Твой отец дважды замечал меня, но убедил себя, что ему показалось. Я видел, как твоя мать кормила жалких голодных индейцев, которые приходили просить подаяния. Я видел, как ты выслеживал оленя по следам и как в тот самый вечер застрелил большого темакупа[43]. – Он печально вздохнул. – Но Поедатели Собак почуяли запах вашей еды, а когда я сказал им, что знаю семью, живущую там, что они бедные люди, набукуваате, они закричали, что бедняки так сытно не едят. И Урват решил сам проверить.
Я смотрел на далекие холмы и видел за ними мать, лежащую на пороге дома, растерзанную сестру, брата в каменистой яме. Может, это брат с сестрой привлекли к нам внимание индейцев, подумал я. Потом представил, каково бы ей пришлось, доведись вытерпеть все, что досталось мне. Мама, наверное, справилась бы, а вот сестра… Она точно зачахла бы, решил я. Она совсем не готова была к такой жизни.
Потом я подумал об отце. И вычеркнул его из памяти. С его именем не связано теперь ничего, кроме стыда и позора.
– Мууви, – решительно произнес я.
– Мууви, – одобрительно повторил Тошавей.
Тошавей и сам не знал, сколько ему лет. На вид около сорока. Высоколобый, как все чистокровные команчи, с широким носом и квадратной головой, пешком он двигался неуклюже, как старый ковбой. Но посади его верхом – и словно другой человек. Все команчи были превосходными наездниками, но не все похожи на Тошавея: смуглые или светлокожие, долговязые, как каранкава[44], или жирные, как банкиры, с чертами лица, будто выруб ленными топором, или точеными, как у испанских грандов, – самая причудливая смесь. В каждом из них текла кровь пленников – индейцев из других племен, испанцев, а с недавних времен еще американцев или немцев.
Поднимался я до зари, если не хотел, чтобы меня выпороли. По росистой траве брел к реке, приносил воду, разводил огонь. И весь день вынужден был заниматься женской работой. Толок зерно в ступе, свежевал дичь, добытую мужчинами, опять таскал воду, ходил за дровами. Команчи пользовались кремнем и кресалом, как белые, но меня заставляли добывать огонь древним способом: берешь палочку юкки и крутишь ее между ладонями, прижимая одним концом к кедровой дощечке. Прижимать надо сильно, а крутить долго, пока деревяшка не начнет тлеть или пока не сотрешь в кровь ладони. Уголек получается размером с булавочную головку и обычно гаснет, прежде чем поднесешь его к пучку соломы или труту.