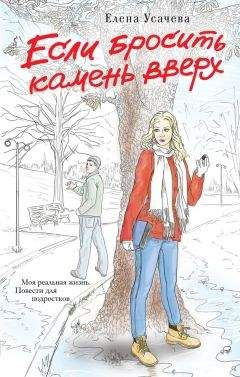Александр Васинский - Сады Приапа, или Необыкновенная история величайшего любовника века
В окрестностях «кабинета задумчивости» обитала ручная канарейка. Постельничий держал ее вне клетки. Она по своей воле сама никуда далеко не отлучалась и любила пить воду изо рта хозяина. Уд набирал полный рот минералки, немного запрокидывал затылок, раскрывал рот, она подлетала, вцеплялась лапками в его подбородок, окунала клювик и пила, раз от разу задирая головку. Иногда было нестерпимо щекотно. А однажды на Уда даже напало состояние сладострастной отключки.
В окрестностях «туалетного кабинета» был разбит зимний сад непрерывного цветения, где в крытых оранжереях с большими пролетами из витражей и зеркал создавался эффект пребывания то в субтропиках, то в пустыне, то среди заснеженных равнин Антарктиды. Это было потрясающе! Там пальмы, магнолии, там кактусы, там карликовые хвойные породы лесотундры. Жимолость каприфоль соседствовала с жимолостью Маака, двойчатая монарда — с зарослями сине-белых кустов рододендрона, примула Юлии — с нарциссами Актея. А вторым ярусом ласкали взор Пентастемон скоулери, спирея Вангутта, чебурашник Лемуана Мон-Блан.
Это был поистине уголок утраченного экологического рая, запечатленный на дивной картине художника раннего Возрождения Витторе Карпаччо «Молодой рыцарь на фоне пейзажа».
Другой достопримечательностью всего «парка задумчивости» был глобус, огромный глобус, сделанный все тем же петербургским реставратором. Это был необыкновенный глобус диаметром шесть с половиной метров. Он вращался вокруг своей оси, меняя угол вращения сообразно реальному времени года и суток. Океаны, озера, реки представляли собой великолепно вмонтированные действующие аквариумы, а суша — Европа, обе Америки, Африка, Океания — выглядела в минимакетах так, как если б на них смотрели с околоземной орбиты. Ужасно симпатичными получились имитации маленьких айсбергов, плававших в акватории Антарктиды. Реставратор выпилил их из брусков прозрачного пищевого льда и еще поработал с ними резцом и пилочками.
Юджин в первый раз, когда был допущен в зимний сад, сразу влюбился в подростковые италийские пинии с их скошенными в одну сторону кронами без макушек. Видно, даже в семенах заключена эта высокая участь клониться вершиной вбок под напором вечного ветра с моря, иначе почему даже здесь, в искусственном зимнем саду, они гудят, как натянутая струна?.. Юджин просто заболел, гадая, на что похожи эти пинии со сбитыми вбок кронами, которые, казалось, приютили на минуту порывы утомленного самим собой и свернувшегося калачиком ветра. И вдруг его осенило: они напоминают знаменитый «летучий» памятник Шопену в Варшаве!
Здесь, под сенью италийских пиний и прочей вдохновенной растительности, Юджин затевал с Удом свои первые собеседования, вразумляя его начаткам политологических и иных познаний.
Бывало, под гул огромного вращающегося вентилятора рассядутся за журнальным столиком, на нем разбросаны свежие газеты и масса листков, бумажек, поверх которых, как на подмостках, застыла в танце увесистая бронзовая статуэтка балерины (садовник специально поставил, чтоб листки под воздушной струей не разлетались), дождутся, когда слуги, расставив безалкогольные напитки, оставят их одних и начинают занятие или, как выразился босс, «натаску».
— Видите ли, босс, — Юджин шуршал какими-то листочками, — нам с вами крупно повезло родиться в стране, где испокон века наблюдается болезненная непереносимость свободы. Это наше коренное, родовое, национальное… — Педагог краем глаза взглядывал на ученика — «сечет» ли тот, как-то реагирует? Тот, похоже, внимал. Поощренный, Юджин повышал градус ораторской бравады. — В политическом плане, босс, мы всегда жили в Смутное время. У нас и сейчас Смутное время. Это наше время в истории, наш способ существования в ней. Жертвой всегда была свобода мысли. Чаадаев, наш первый сумасшедший по политическим мотивам, в «Философических письмах», — Юджин потянулся к какой-то книге, вытащил закладку, — писал…
— Знаешь что, Юджин, не надо цитат, говори своими словами.
Юджин отложил книгу в сторону.
— Хорошо. В этой теме главное — усвоить, что гену свободы в нашем национальном генотипе как бы не из чего было образоваться. Почему до многих не доходит боль унижения? Потому что это не всем дано. Чтобы страдать от несвободы, надо, босс, быть политически ранимым человеком.
Уду понравилось последнее выражение. Юджин это почувствовал, он гарцевал на белом коне неудержимого витийства.
— Мы говорим — сейчас демократия! Да? Но кто у нашей демократии родители? Если мама — либеральная идея, то папа-то уж точно тоталитаризм. У них противопоказания по резус-фактору, а они зачали. Удивительно ли, что родилась такая несколько дефективная демократия?
Уд хмыкнул, Манкин продолжал:
— А собственно, где нам было взять другую демократию — полноценную, породистую, чистых древнегреческих и английских кровей? А? — Он опять проникновенно посмотрел на Уда. — Понимаете, шеф, у нас к свободе относятся слишком торжественно, ее выносят как дорогую хрустальную вазу по большим праздникам, трясутся над ней, боясь разбить. А свобода должна быть доступной, рабочей, общеупотребительной, как одноразовый бумажный стаканчик.
Юджин прервался, потому что струей вентилятора один из листочков выбило из-под бронзовой статуэтки и понесло за кусты жимолости мимо италийских пиний. Листок был с высказыванием Ивана Ильина о «политическом слабоумии первобытных душ». Он сначала застрял в кроне одной из пиний, потом проскочил между веток и спланировал на траву прямо к ногам одного из Приапов.
Юджин встал, чтобы поднять листок, но Уд остановил его рукой.
— Слушай, Юджин, — сказал он. — Не надо, с демократией все понятно. Ты мне вот что скажи, только не смейся, я знаю, что на этот вопрос любой ваш пятиклассник ответит… — Он взял со стола статуэтку, подошел к своему глобусу и приставил ее снизу подножкой к Антарктиде, сделанной из головки сахара. — Смотри, она висит вниз головой. Так? Но нельзя же ходить, когда висишь вниз головой, а люди там нормально ходят, я по телевизору видел… Объясни ты мне это, про антиподов, я пятый день над этим думаю. — Он поставил статуэтку на место. — Я ни о чем другом думать не могу…
5
Как-то Уд возле парка культуры гулял пешком впереди медленно едущего лимузина и увидел грязную дрожащую болонку. У нее местами вылезла шерсть на спине и боках. Не боясь подхватить лишай, Уд погладил ее, взял на руки. Собачонка лизнула его в щеку, и судьба ее была решена. Он протянул ее телохранителю.
— Накормить. Вымыть. Вылечить. Сделать все прививки…
Болонка опять попыталась лизнуть благодетеля, и обнаружилось, что у нее к тому же не хватает нижнего зуба. Она взвизгивала, порываясь поцеловать Уда.
— …и показать дантисту, — закончил босс.
Едва он собрался сесть в салон лимузина, как с тротуара к нему резко подскочил какой-то взбалмошный, явно на взводе, человек. Охранник сбил его с ног и занес руку для удара милосердия. Уд остановил его.
— Подними его, — сказал он охраннику. Тот одной рукой поднял жалкого человека, сразу напомнившего своим видом крылатую фразу о гнилой интеллигенции. На голове его была какая-то неопрятная шапка, глаза полубезумные, вид одновременно затравленный и дерзкий.
— Оставь нас, — сказал Уд телохранителю. — У этого человека нет плохих намерений. Ведь нет, любезный? Или я ошибаюсь?
— Н-нет…намерений, — пробормотал неизвестный. Он, видно, еще не совсем очухался от потрясения.
— Ну вот, оставь, оставь нас. — Уд пригласил неизвестного в салон, в ту часть, которая называлась кабинетом. Неожиданно болонка стала рычать на неизвестного, чем рассмешила Уда. — Я вас слушаю, — спокойно, трезво сказал Уд. Вдруг тот сорвал с головы надвинутую на глаза шапочку, обнажив громадный ленинский лоб.
— Я узнал вас… вы по телевизору… я случайно… я не специально…
— Не волнуйтесь. Случайно. Ясно. Переходите к просьбе. Или к делу. Что там у вас? — Уд говорил тихо, размеренно, вразумляюще, как психиатр.
— Перед вами неудачник, посмешище, которое не востребовано обществом, но… — Неизвестный протянул руку, как бы пресекая попытку его оборвать, однако никто не собирался его обрывать, Уд смотрел на него своими спокойными холодными умными глазами. — Нет! Я не буду просить, мне не нужны подачки! — вдруг вызывающе воскликнул уличный неврастеник. — Я… я хочу заработать. Я ученый. И я… — Он вдруг опять впал в транс. — К черту многолетние изыскания в области молекулярной химии, к черту упования на гранты Сороса, которые достаются только по блату, я решился… я — Он вдруг словно бы в пароксизме страха и катастрофического самоумаления, «сжигая все мосты», схватился за свой действительно огромный лоб макроцефала и исступленно прокричал: — Вот, возьмите, я жертвую, я готов: пусть на этом лбу, на этом вместилище разума мне навечно сделают татуировку — полное название вашей фирмы «Кичхоков корпо-рейшн», и я до конца своих дней… словом, обязуюсь носить здесь, как живая реклама… на лбу… за небольшое, но пожизненное вознаграждение… и никогда не пользоваться головным убором…