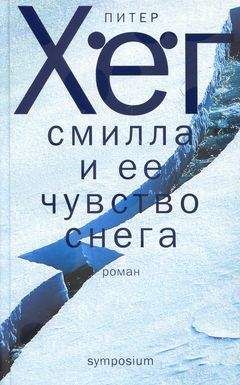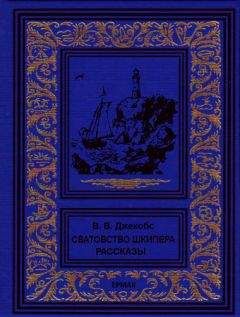Питер Хёг - Фрекен Смилла и её чувство снега
Он не оратор. За последние пять минут он сказал мне больше, чем за прошедшие полтора года. Он так распахнул свою душу, что я не решаюсь прямо смотреть на него, а смотрю в чашку. На поверхности образовались маленькие, прозрачные пузырьки, на которые попадает свет, преломляясь красным и лиловым.
— С того дня мне стало казаться, что он чего-то боится. То, что ты говоришь о следах, никак не выходит у меня из головы. Поэтому я слежу за тобой. Ты и Барон понимаете — понимали — друг друга.
Исайя приехал в Данию за месяц до моего переезда сюда. Юлиана подарила ему лакированные туфельки. Лакированные туфли в Гренландии считаются красивыми. Они не могли засунуть его веерообразные широкие ноги в узкие туфли. Но Юлиане удалось найти пару по форме ноги. С тех пор механик называл Исайю Бароном. Если прозвище пристает к человеку, значит, оно затронуло глубинную суть. У Исайи это было чувство собственного достоинства. Ведь он был самодостаточным. Ему требовалось так мало от окружающего мира, чтобы чувствовать себя довольным.
— Я совершенно случайно вижу, как ты поднимаешься к Юлиане и снова уходишь. И крадусь за тобой в «моррисе». Вижу, как ты кормишь собаку. Как ты перелезаешь через забор. И открываю другую калитку.
Вот как, оказывается, обстоит дело. Он что-то слышит, что-то замечает, он следует за мной, он открывает калитку, получает по голове, и вот мы сидим здесь. Никаких загадок, нет ничего нового и тревожного под солнцем.
Он ухмыляется мне. Я улыбаюсь ему в ответ. Так вот мы сидим, пьем кофе и улыбаемся друг другу. Мы знаем, что я знаю, что он лжет.
Я рассказываю ему об Эльзе Любинг. О Криолитовом обществе «Дания». Об отчете, который лежит перед нами на столе в полиэтиленовом пакете.
Я рассказываю ему о Рауне. Который работает не совсем в том месте, где он работает, а в другом.
Он сидит, опустив глаза, пока я говорю. Сгорбившийся, неподвижный.
Что-то между нами недосказано, что-то лежит на грани сознания. Но мы оба чувствуем, что участвуем в бартерной сделке. Что мы в глубоком взаимном недоверии обмениваемся теми сведениями, которые мы вынуждены сообщать, чтобы получить что-нибудь взамен.
— И потом а-адвокат.
На улице, над гаванью, появляется свет, как будто он спал в каналах, под мостами, откуда он медленно поднимается на лед, который начинает светиться. В Туле свет появлялся в феврале. За несколько недель до того, как становилось видно солнце, пока оно еще было далеко за горами, и мы жили в темноте, солнечные лучи освещали Перл-Айлэнд, находившийся в море за сотни километров, и заставляли его светиться, словно осколок розового перламутра. И тогда, что бы взрослые ни говорили, я была уверена, что солнце находилось в зимней спячке в море, а теперь просыпается.
— Все начинается с того, что я замечаю машину, красный БМВ, на Странгаде.
— Вот что, — говорю я.
Мне кажется, что машины на Странгаде каждый день разные.
— Раз в месяц. Он забирает Барона. Когда он возвращался, с ним было невозможно говорить.
— Вот как, — говорю я.
Медлительным людям надо давать столько времени, сколько им потребуется.
— И вот однажды я открываю машину и заглядываю в бардачок. У меня есть инструмент. Оказывается, это адвокат. Его зовут Винг.
— Ты мог перепутать машину.
— Ц-цветы. Они словно цветы. Когда ты садовник. Я увидел машину раз или два, и все — я запомнил ее. Как у тебя со снегом. Как у тебя было на крыше.
— А вдруг я ошиблась? Он качает головой.
— Я видел, как вы с Бароном играли в ту игру с прыжками. Большая часть моего детства прошла в этой игре. Часто я продолжаю играть в нее во сне. Кто-то прыгает на гладкую снежную поверхность. Остальные ждут, повернувшись к нему спиной. Потом надо на основе следов реконструировать прыжок первого. В эту игру мы и играли с Исайей. Я часто отводила его в детский сад. Мы часто опаздывали на полчаса. Меня ругали. Говорили о том, что детский сад не сможет работать, если дети будут сползаться в течение всего дня. Но мы были счастливы.
— Он прыгал, как мешок блох, — говорит механик мечтательно. — Он ведь был хитер. Он делал полтора оборота в воздухе и приземлялся на одну ногу. И попадал в свои собственные следы.
Он смотрит на меня, качая головой.
— Но каждый раз, каждый раз ты отгадывала.
— Сколько времени они отсутствовали?
Звуки пневматического молота с Книппельсбро. Начинающееся движение машин. Чайки. Далекий низкий звук, скорее даже глубокая вибрация первой ракеты на подводных крыльях. Короткий сигнал борнхольмского парома в тот момент, когда он разворачивается перед Амалиехаун. Начинается утро.
— Может быть, несколько часов. Но его привозила другая машина. Такси. Он всегда возвращался один на такси.
Он делает нам омлет, пока я стою в дверях и рассказываю ему об Институте судебной медицины. О профессоре Лойене. О Лагерманне. О следах того, что, возможно, было мышечной биопсией, взятой у ребенка. После того, как он упал.
Он режет лук и помидоры, окунает их в масло, крепко взбивает белки, замешивает желтки, и поджаривает все с обеих сторон. Он ставит сковородку на стол. Мы пьем молоко и едим кусочки черного, сочного ржаного хлеба, пахнущего смолой.
Мы едим в молчании. В тех случаях, когда я ем с чужими людьми — как сейчас — или если я очень голодна — я задумываюсь о ритуальном значении еды. Из детства я вспоминаю, как сочеталась торжественность собрания с сильными вкусовыми ощущениями. Розоватую, слегка пенящуюся ворвань, которую едят из общего блюда. Ощущение того, что, строго говоря, все в мире существует, чтобы быть разделенным между людьми.
Я встаю.
Он стоит в дверях, как будто хочет загородить мне дорогу.
Я думаю о том, что он не все до конца рассказал мне сегодня.
Он отходит в сторону. Я прохожу мимо. Держа в руке свои сапоги и шубу.
— Я оставлю часть отчета. Это будет хорошей тренировкой при твоей дисграфии.
На его лице появляется озорное выражение.
— Смилла. Как может быть, что у такой изящной и хрупкой девушки, как ты, такой грубый голос?
— Мне очень жаль, — говорю я, — если создается впечатление, что груб у меня только голос. Я изо всех сил стараюсь быть грубой во всем.
Потом я закрываю дверь.
11
Я проспала все утро и проснулась позже, чем следовало, поэтому на то, чтобы принять душ, одеться и наложить косметику перед похоронами, у меня осталось всего лишь полтора часа, а это совсем не так уж много времени — это вам может подтвердить всякий человек, который стремится произвести хорошее впечатление. Поэтому, когда мы приходим в часовню, я чувствую себя совершенно сбитой с толку, и после церемонии лучше мне не становится. Идя рядом с механиком, я чувствую себя так, как будто кто-то снял с меня крышку и прошелся вверх и вниз большим ершиком для мытья бутылок.
Что-то теплое опускается мне на плечи. Он снял свое пальто и укутал меня им. Оно доходит мне до пят.
Остановившись, мы оглядываемся на могилу и на свои следы. Его — большие, от скошенных набок подошв. По-видимому, у него чуть кривоватые ноги, хотя внешне это почти незаметно. Маленькие дырочки от моих высоких каблуков. Они похожи на следы косули. Косое, скользящее вниз движение, а на дне следа — черные точки, там, где копытца пробили снег до земли.
Женщины проходят мимо нас. Я вижу только их сапоги и туфли. Трое из них поддерживают Юлиану, носки ее туфель тащатся по земле. Край одеяния священника. Рядом — пара сапог из тисненой кожи. Над воротами, ведущими к аллее, висит фонарь. Когда я поднимаю взгляд, женщина откидывает голову, так что длинные волосы отлетают назад в темноту, и на ее лицо падает свет, бледное лицо, на котором большие глаза кажутся темными озерами. Она держит священника под руку, и что-то проникновенно говорит ему. Нечто в облике этих двух стоящих рядом людей заставляет эту картинку запечатлеться в памяти.
— Фрекен Ясперсен.
Это Раун. С друзьями. Двумя мужчинами. На них такие же большие, как и на нем, пальто, но они им ничуть не велики. Под пальто на них синие костюмы, белые рубашки и галстуки, они в солнечных очках, чтобы зимние сумерки сейчас в четыре часа дня не слепили им глаза.
— Я бы хотел переговорить с вами.
— В отделе по борьбе с экономическими преступлениями? О моих капиталовложениях?
Он и глазом не моргнул. Его лицо так много всего повидало на своем веку, что уже больше ничто не оставляет на нем следов. Он делает жест по направлению к машине.
— Я не уверена в том, что у меня сейчас есть желание говорить с вами. Он не двигается ни на миллиметр. Но его соратники незаметно подползают ближе.
— Смилла. Ес-сли ты не хочешь, то, я думаю, ты не должна идти. Это механик. Он загораживает мужчинам дорогу.
Когда животные — и почти все обычные люди — оказываются перед лицом физической опасности, их тело цепенеет. С физиологической точки зрения это неэкономично, но это — закон. Полярные медведи являются исключением. Они могут лежать в засаде, полностью расслабившись, в течение двух часов, при этом ни на секунду не ослабляя максимального тонуса готовности мускулатуры. Теперь я вижу, что и механик является исключением. Он стоит почти без всякого напряжения. Но в его сосредоточенности на стоящих перед ним мужчинах таится физическая опасность, которая еще раз мне напоминает о том, как мало я о нем знаю.