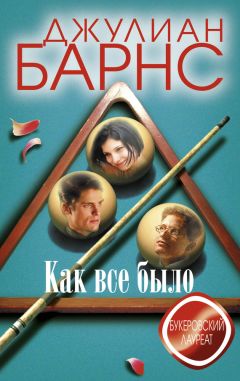Джулиан Барнс - Шум времени
Одно оказалось хорошо тогда в Нью-Йорке: фрак произвел должное впечатление. Прекрасно был подогнан по фигуре.
Когда самолет снижался над Рейкьявиком, ему нестерпимо хотелось вызвать стюардессу и попросить бензедриновый ингалятор. Теперь уже, по сути, было все равно.
Вполне возможно, думалось ему, что Набоков каким-то изощренным способом хотел выразить сочувствие его положению, продемонстрировать остальным делегатам истинную сущность этого публичного маскарада. Но если так, этот субъект – либо платная подсадная утка, либо политический дебил. Чтобы доказать отсутствие свободы под солнцем сталинской конституции, он готов был принести в жертву судьбу конкретного человека. Ведь именно это он и проделал: не хочешь Выпрыгнуть Из Окна – тогда почему бы не сунуть голову в петлю, которую я для тебя приготовил? Скажи правду – и умри, согласен?
Один из пикетчиков у отеля «Уолдорф-Астория» держал плакат: «ШОСТАКОВИЧ, МЫ ПОНИМАЕМ!» Да что они могут понимать, даже такие, как Набоков, кому довелось пожить при советской власти. И с каким же самодовольством вернутся они в свои комфортабельные американские апартаменты, с честью выполнив дневную норму трудов во имя свободы и мира во всем мире. Ни знаний у них, ни воображения, у этих западных смельчаков-гуманистов. Приезжают в Россию по путевкам азартными стайками, каждая кандидатура одобрена Советским государством, каждый жаждет познакомиться с «настоящими русскими», чтобы уяснить, каковы «на самом деле» их взгляды и убеждения. Уж об этом-то им поведают в последнюю очередь, поскольку не нужно быть параноиком, чтобы знать о присутствии стукача в каждой группе, равно как и о том, что гиды послушно строчат отчеты. Одна такая стая дорвалась до Ахматовой и Зощенко. Это была очередная задумка Сталина. До вас дошли слухи, что у нас притесняют отдельных работников литературы и искусства? Вы хотели встретиться с Ахматовой и Зощенко? Да вот же они – спрашивайте о чем угодно.
И эта кучка западных гуманистов, уже восторженно пожирающих Сталина своими коровьими глазами, не нашла ничего умнее, как спросить Ахматову, что она думает о направленных против нее высказываниях «председателя Жданова» и постановлении Центрального комитета. Жданов перед тем заявил, что Ахматова отравляет сознание молодежи тлетворным духом своей поэзии. Ахматова встала и сказала, что считает и выступление «председателя Жданова», и постановление Центрального комитета совершенно правильными. И эти визитеры удалились, сжимая в руках свои путевки и повторяя друг другу, что взгляды Запада на Советскую Россию – это злобные измышления, а деятелей литературы и искусства не только не притесняют, но и дают им возможность вести конструктивную полемику с высшими эшелонами Власти. Что доказывает, насколько выше ценится искусство в России, нежели в их собственных упадочнических странах.
Но еще большее отторжение вызывали у него широко известные западные гуманисты, которые приезжали в СССР, дабы объяснить местному населению, что оно живет в раю. Мальро, который восхвалял Беломорско-Балтийский канал, ни словом не упомянув, что канал этот стал могилой своих строителей. Фейхтвангер пресмыкался перед Сталиным и «понимал», что показательные процессы необходимы для дальнейшего развития демократии. Певец Поль Робсон громогласно поддерживал политические убийства. Полное отвращение вызывали Ромен Роллан и Бернард Шоу, которые набрались смелости похвалить его музыку, но закрывали глаза на гонения Власти против него и других. Сказавшись больным, он не явился на встречу с Роменом Ролланом. Но Бернард Шоу был не меньшим злом. «Голод в Советском Союзе? – риторически вопрошал он. – Помилуйте. Меня нигде так не угощали, как в Советском Союзе». К тому же именно он заявил: «Вы меня не испугаете словом „диктатор“». И этот доверчивый олух, который якшался со Сталиным, так ничего и не заметил. Действительно, ему ли бояться диктатора? У них в Англии диктаторов не бывало со времен Кромвеля. А ведь заставили отправить Бернарду Шоу партитуру Седьмой симфонии. Надо было на титульном листе, рядом со своей подписью, указать количество крестьян, умерших от голода, пока этот драматург предавался чревоугодию в Москве.
Другие смыслили поболее, выражали поддержку и в то же время разочарование. Эти не понимали того простого факта, что в Советском Союзе невозможно сказать правду и после этого остаться в живых. Эти воображали, что знают механизмы Власти, и хотели, чтобы ты с ней боролся, как – по собственному убеждению – боролись бы сами на твоем месте. Иными словами, они хотели крови. Хотели мучеников, чтобы доказать порочность режима. Только вот мучеником предлагалось стать тебе, а не им самим. Сколько, интересно, требуется мучеников, чтобы доказать истинную, чудовищную, хищно-злобную натуру этого режима? Все больше и больше. Чтобы превратить человека искусства в гладиатора, который на арене сражается с дикими зверями, орошая песок своей кровью. Чего они хотят добиться, говоря словами Пастернака, так это «полной гибели, всерьез». Придется разочаровывать этих идеалистов, сколько получится.
Одного им не понять, этим самозваным друзьям: насколько они похожи на Власть – сколько ни дай, требуют еще, «наступя на горло».
От него всегда хотели больше, чем он мог дать. А он всегда хотел отдавать только одно: музыку.
Если бы все было так просто.
В воображаемых беседах, которые порой велись у него с этими разочарованными сторонниками, он, как правило, начинал с одного маленького, базового факта, почти наверняка им неведомого: в Советском Союзе купить нотную бумагу могут только члены Союза композиторов. Известно вам это? Конечно нет. Но, Дмитрий Дмитриевич, непременно отвечали они, если так, можно ведь приобрести чистые листы и нанести нотный стан при помощи карандаша и линейки, разве нет? Неужели у вас так легко отбить охоту заниматься любимым искусством?
Хорошо, мог бы продолжить он, давайте подойдем с другой стороны. Если тебя объявили врагом народа, как произошло в свое время с вашим покорным слугой, все и вся вокруг тебя оказываются замараны и заражены. В первую очередь, конечно, родные и друзья. Но также и дирижер, который исполняет, или недавно исполнял, или предлагает к исполнению твою вещь, а также участники струнного квартета, концертный зал, даже камерный, а также слушатели. Сколько раз дирижеры или солисты в последний момент срывали договоренность? Одни из естественного страха или понятной осторожности, другие после намека от Власти. Кто угодно, от Сталина до Хренникова, мог запретить исполнение твоих произведений по всей стране на неограниченный срок. Они уже сломали ему карьеру как оперному композитору. В начале его творческого пути многие предрекали – и он соглашался, – что лучшие свои работы он создаст именно в жанре оперы. Но после того как зарубили «Леди Макбет», он за оперы больше не брался, да и начатые не завершил.
Но, Дмитрий Дмитриевич, можно же работать в домашней тиши и самостоятельно распространять свои произведения: показывать друзьям, переправлять за рубеж, как поступают поэты и прозаики? Вот спасибо за такую гениальную идею: чтобы его новаторская музыка, запрещенная в России, исполнялась на Западе. Неужели непонятно, что это сразу сделает его легкой мишенью? Докажет, что он стремится к возрождению капитализма в Советском Союзе. Но музыку-то можно сочинять? Да, можно – неисполненную и неисполняемую. А музыку надо исполнять сразу. Музыка – это вам не китайские яйца, которые с годами становятся только лучше, если закопать их в землю.
Но, Дмитрий Дмитриевич, вы впадаете в пессимизм. Музыка бессмертна, музыка будет длиться вместе с вечностью, потребность в музыке не исчезнет, музыка способна выразить все, что угодно, музыка… и так далее и тому подобное. Когда ему начинают объяснять природу его собственного искусства, он затыкает уши. Можно только поаплодировать такому идеализму. Да, музыка бессмертна, но композитор-то – отнюдь нет. Его легко заткнуть, а еще легче убить. Что же касается обвинения в пессимизме – слышать такое ему не впервой. А они – протестовать: нет-нет, вы не понимаете, мы помочь хотим. Так что в следующий раз, когда понаедут из своих безопасных, богатых стран, пусть нотной бумаги побольше везут.
Во время войны, в медленно ползущих тифозных поездах между Куйбышевом и Москвой он надевал на шею и запястья нанизанные на нитку чесночные дольки; они помогали уберечься. А теперь – хоть носи их не снимая: только беречься приходится не от тифа, а от Власти, oт врагов, от лицемеров, даже от доброхотов-друзей.
Он восхищался теми, кто смог встать во весь рост и высказать правду в лицо Власти. Восхищался их мужеством и нравственной цельностью. А порой завидовал: но тут не все так просто, поскольку зависть его отчасти распространялась на их смерть: им теперь неведомы муки живых. Когда он по ночам ожидал у себя на Большой Пушкарской, на пятом этаже, что вот-вот откроются дверцы лифта, к страху примешивалось пульсирующее желание: уж пусть бы забрали. Он, ко всему прочему, убедился и в бесполезности разовых проявлений мужества.