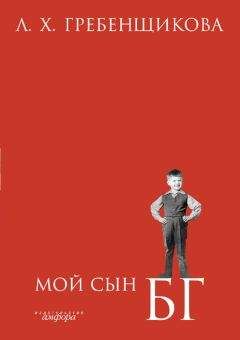Бузина, или Сто рассказов про деревню - Гребенщикова Дарья Олеговна
А уж потом, в избе, дед, нацепив очки, будет низать грибы на суровье, завязывая на конце каждой нитки спичку – вроде как жердочку, а Валдайка, заморенная, в репьях, будет греть у печи серый бок и перебирать во сне лапами – перепрыгивать через бурелом. И подняв во сне рябчика, тявкнет, проснется смущенно и побредет к миске – лакать воду.
Октябрем вдруг тихо и беспомощно облетела листва, державшаяся всю осень, и выстлала дорогу таким фантастическим смешением красок, стилей, размеров и форм – что нога не поднималась пройти и ворохнуть листья… Привыкшая к листопаду ребятня выуживала опавшие кленовые листья неправдоподобного цвета – лимон с набрызгом из яркой малины, собирала в букеты, не веря, что завтра листья сморщатся и утратят своё великолепие. Девчушки собирали листочки осины, иззубренные, в цвет румяного персикового бока, оставляя лежать дубовые, скучные, кожистые. Рассыпался в руках лежалый рябиновый, волглый от дождей лист, а берёзовый, опавший прежде всех сентябрём, ссыхался в охряную труху.
Вечером задул юго-западный ветер, погнал перед собой влажную стылую стену, осыпался дождём, закрутил посеревшую озерную воду, да и прошел мимо. А утром вдарил мороз, да такой силы, что схватил водяной плащ, заморозил его, и впечатал все разноцветье листвы под лёд. Невиданной тканью, сотканной из павших ярких листьев, накрыло дорогу. Солнце победно вспыхнуло, добавило морозному воздуху пронизывающей яркости, и мы завороженно, не смея ступить на ледяной ковер, просто стояли и вбирали в себя прощальную роскошь этого последнего парада. А потом посыпали дорогу песком, разъездили шинами, протоптали сапогами да полозьями, и остались лоскутья ковра по обочинам, где листья так и вмёрзли – на всю зиму.
Почта
Важнее почты в деревне только магазин с хлебом и медпункт. А и то – почта главнее. Потому как на почте – пенсия, а народ в деревне в пожилых годах. Здание почтовое еще барин строил, под школу. Потому добротно, просторно и печки греют. Порядок – исключительный. Есть отдельный кабинет «Сберегательная касса», есть комната «Прием посылок», и есть даже, где на газеты подписываться. В центральном зале, за прилавком, обитым синим линолеумом и крашеным рыжей краской, сидят почтово-телеграфные работники. Илья Семенович Яблочкин, заведующий почтой, грузный, похожий на бульдога, мужчина. Он носит тюбетейку, скрывающую лысину и сатиновые нарукавники, скрывающие дырявые локти рубашки. Яблочкин знает цену себе и посетителю, потому томит его в очереди до состояния покорности. Он считает, медленно откидывая костяшки на счётах, пишет еще медленнее, заполняет бланки, формуляры, величественно достает книгу, в кармашки который вложены марки и выбирает их, слюня пальцы. Конверты он любит с картинками, и чтобы – к дате. Посылки принимает только зашитые в белую материю, поверх которой разборчиво должно быть вписано – кому, куда и от кого. Отправитель путается, бегает переписывать бланк, ошибается в сотый раз, вписав сумму цифрами, а вся очередь шипит, и зло покрикивает – знает, что такая же судьба ожидает каждого томящегося. Конечным пунктом идет опечатывание отправления, для чего на маленькой электроплитке булькает кастрюля с сургучом. Вздыхая, будто соблюдая государственную тайну, встает Яблочкин и вынимает из сейфа специальную печать на деревянной ручке. Налив сургуча на переплетение веревок, он аккуратно притискивает печать и любуется соделанным.
За отдельным прилавком сидит Нинка-телефонистка, жующая в мембрану телефонной трубки – «город, город, девочки, ответьте Шешурино… город, город…". Линия всегда занята. На деревянных скамьях сидят тетки с детьми, командировочные, шабашники, приехавшие ставить коровник и прочий мелкий люд. Неожиданно Нинка кричит – «Хабаровск? Вторая кабина! Бежите, кому Хабаровск? Пятнадцать минут!» тут же срывается мужичок, теряя на бегу, портфель и кричит на всю почту – «Маша, Маша, я задерживаюсь на двое суток! Маша! У нас ревизия!» – а все, кто есть на почте, ухмыляются – знают, что дядька из Хабаровска сошелся с продавщицей Валькой и мается с нею в печной жаре, на лежанке, да в избе, на мягких перинах.
Почтальонами заведует заместитель заведующего, дородная, синехалатная, с ленцою, Валентина. Она рвет карандашом квитанцию на подписку, вычеркивая все, кроме районной газеты, – Ната-а-ш, – нараспев говорит она, – ты ж знашь – лимит на всё! Хошь на «Сельскую жизнь» с января? Ну… как знашь… не, на «Крестьянку» нету. На «Работницу» нету. На «Пионера» нету. Какие тебе моды? В библиотеку сходи, – жалеет она учительницу Наташу. Сама же Валентина дефицитные журналы выписывает подругам и нужным людям. Пользуется служебным положением, значит.
За круглым столиком, обитым линолеумом под мрамор, сидит баба, пришедшая из дальней деревни. Под галошами ее натекли лужи, бабе жарко от печки, пожирающей оберточную бумагу и испорченные бланки. Баба скидывает на плечи серый козий платок, развязывает белый, хлопковый, в голубую крапину, утирает им лоб. Шарит в клеенчатой сумке, тихо ругая себя старой дурой и курицей, очочки, и, держа их, как лупу, начинает корябать текст телеграммы, запинаясь пером по бумаге, ставя звездчатые кляксы и тихо мучаясь от слабости глаз и ума. Кликнув пацаненка, прыгающего рядом с мамкой, получающей перевод из города, просит его помочь, и малец резво строчит кривыми крупными буквами – «преезжай доча бабы плохо и помру не преедишь». Облегченно вздохнув, баба тяжко поднимается и встает в хвост очереди.
Над отделением «Сберкассы», расположенной тут же, в угловом кабинете, висит плакат с розовым молодым человеком, покупающим облигации госзайма. Молодой человек белозубо улыбается, показывая чистой розовой ладонью на дом, машину и красавицу жену в импортной шубе. Баба глядит в кошелечек, зашитый сбоку черной толстой ниткой, и горестно вздыхает.
Все стены увешаны плотно, как рыбьей чешуей, постановлениями, приказами, образцами заполнения бланков и прочей бюрократической дребеденью, которую никто не читает.
Дело ползет к обеду, и Яблочкин уже нашаривает табличку, на которой обозначено четко – «ОБЕД», но тут вваливаются рабочие из лесхоза, получившие зарплату, и занимают собой все помещение почты – сейчас будут отправлять домой переводы. Яблочкин, как капитан корабля, приставив ладонь ко лбу козырьком, следит – не сопрут ли чернильницу? Карандаши? Не подрисуют ли усы на портрете Ленина, не напишут ли слово из трех букв? От лесхозовцев пахнет соляркой, смолой и дешевым табаком, они облепили все столики и бригадир, прикусив губу, выводит адреса на бланках. Тут с грохотом открывается дверь, да так, что чуть не слетает пружина, и как вихрь, влетает маленькая, хромающая на левую ногу, Надька Колоскова, баба вредная, скандалистка и пьяница. Пальтишко на ней распахнуто, платок развязался, Надька настроена серьёзно и со всей силы лупит клеёнчатой сумкой бригадира, отчего тот сажает кляксу на бланк и успевает дать в глаз Надьке свободной рукой. Пока Яблочкин свистит в свисток, припасенный для подобных нередких случаев, дерущихся растаскивают по углам. Бригадир, задолжавший Надьке за съемный угол, краснея, отсчитывает рубли и присыпает их горкой мелочи, – на, подавись! Тут остается ровно пять минут до обеда, и Яблочкин, выходя из-за прилавка, натягивает на себя овчинный полушубок и бекешу, и громким командным голосом орет – ОБЕД! И все покорно освобождают почту, и целый час, пока индевеет на почтовых дверях амбарный замок, жмутся, топочут ногами на холоде, покуривают и ругают Надьку, из-за которой теперь – вон, целый час морозиться.
Лена и Илья
– Зачем тебе этот тракторист? Зачем? – это орёт мать. Лена захлопывает окно.
– Мам, ну на всю деревню не ори?
– Это Я ору? – началось. До отъезда из деревни один день. Сумасшедший день. Ленин отпуск скукожился и исчез. Никакой Италии – карантин. Даже в Эмиратах, и то – карантин. А здесь, в Васильково, ничего нет. Поле, три коровы на горизонте и четыре бабки. Даже детей нет. Пустыня. Ленка с трудом вспоминает бабушку Пелагею, грузную, улыбчивую, с мягкими руками и фартуком, испачканным мукой. Теперь бабушки нет, есть нервная, вечно взвинченная мать.