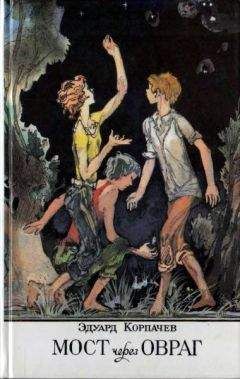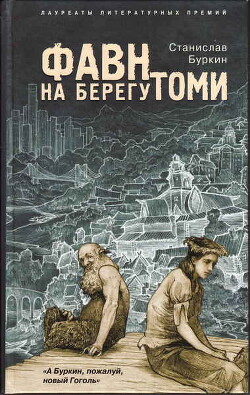До свидания, Сима - Буркин Станислав Юльевич
Впрочем, даже если ничего бы волшебного не случилось, полагал я, попробовать все же стоило. Стоило хотя бы потому, что ничего уже не могло повредить всей той пестрой гамме мер, которые я применил в борьбе за руку и все остальные части тела дамы моего сердца.
Когда-нибудь я обязательно напишу о ней целую лирическую книгу. Это будет самый сопливый роман в истории человечества. Над ним будут рыдать домохозяйки, упуская молоко на плите и забывая о детях, бултыхающихся в ванной комнате. Его будут проклинать, заучивая отрывками, студенты и школьники. Его будут вспоминать и цитировать в самые трагические моменты истории человечества. И его же будет жалобно перелистывать радиоактивный ветер на пепелище мировой цивилизации.
Спросите, почему я такой самонадеянный и жестокосердый? Не знаю, наверное, потому что все мальчики в моем возрасте не слишком-то скромные и жалостливые. Мы даже играем в основном в беспощадные войны и жуткие автомобильные столкновения. Для этого мы часто калечим и поджариваем солдатиков, и чего только не натерпелись от нас бедные несчастные насекомые, нервная система которых, кстати сказать, во много раз сложнее любого даже самого современного компьютера.
Но что такое жестокость мальчиков по сравнению с жестокостью девочек? Ведь мы всего лишь мечтатели. А мечтатели не терзают сердца и не превращают юность в трагедию; маленькие жестокие мечтатели лишь сотрясают свои кармические основы и тревожат наполненную добрым духом вселенную своими иллюзорными катаклизмами. Да-да, и ничего больше. А вот есть те — большеглазые, черноволосые, кудрявые или рыжие, — те, для которых мы с нашими молчаливыми страданиями значим не больше, чем вездесущие трудновыводимые домашние насекомые.
Вообще Серафима не всегда жила у нас. Она появилась вскоре после того, как мы вернулись из Америки, где прошла половина моего детства, приехала год назад, когда поступила в мединститут в нашем городе. С тех пор у нее была узкая комнатка (обитель моих грехов) в мезонине и велосипед «Аист» под лестницей, на котором она каждое летнее утро, дребезжа звоночком и повизгивая, слетает в город и который каждый летний вечер недовольно катит пешком в горку к нашему дому.
Первую часть минувшего лета ее не было, она ездила с какой-то группой геологов в алтайское путешествие. Появилась она у нас на даче в Тимирязеве совершенно внезапно — ворвалась вдруг в мою пульсирующую древесную тень под черемухой и засияла улыбками сквозь гирлянды теней и света. Так вот: она была в панаме и обычном цветастом ситцевом платье с широкой короткой юбкой и тесным лифом.
В ее красоте всегда было что-то хищное, а в поведении самодовольное и даже хамское. Хотя изредка она внезапно становилась доброй и задумчивой. После южного путешествия кожа у нее была загорелая. Губы большие, с глянцевыми складочками, и когда она разражалась своим низким смехом во время частых приступов хулиганского хохота, ее зубы, как и белки глаз, неестественно выделялись белизной на фоне бархатного слишком темного лица. Естественно, она казалась мне высокой даже без каблуков, когда носилась по траве в сандалиях или белых спортивных тапочках.
До этого лета я ошибочно полагал, что прекрасно знаю, что такое Серафима и с чем ее едят. Живя себе где-то в Ульяновске, на краю белого пятна моего географического невежества, белокурая старшеклассница-тетушка сочиняла веселые рассказы о животных и года два подряд высылала мне их по почте на тетрадных листочках в блеклую клеточку. Я отвечал ей позорными акварельными иллюстрациями, приводившими ее — насколько могу себе представить — не то чтобы в восторг, а скорее в какое-нибудь зловеще гогочущее умиление. В те счастливые дни я даже не мог подумать, что дурашливая тетя Сима может быть для меня по-настоящему привлекательной.
А началось все как раз тем далеким летом в прошлом августе, когда мы всей семьей вместе с бабушкой жили на даче. Там, в солнечной светотени из фильма «Утомленные солнцем», под шуршащими тополями, в доме или на веранде, на улице за забором или между грядками, ее голос раздавался отовсюду. А я только и делал, что подсматривал (в том числе и в бане) и искал возможность как-нибудь потеснее сблизиться или помедленнее пересечься с ней. Трагедия была в том, что я робел, страдал, а она смеялась. Я не сразу понял, что она специально меня соблазняет, и это лишь усилило, растянуло мои мучения. Впрочем, был момент, когда я почти что покорил ее. Это случилось в жаркий летний день, когда все поехали на допотопной папиной «Волге» на озеро, а мы вдвоем остались у нагретого солнцем крыльца. Почему она не поехала со всеми, я не помню, мне же пришлось кое-что срочно выдумывать.
Так вот, сидели мы с ней тогда в чуть отупляющем полуденном мареве, совсем одни, как в моих грезах, и мирно, если не ляпнуть «непринужденно», беседовали. И вот она тонула в переливающейся тополиной тени, а я, как мне хотелось, чтобы ей казалось, непринужденно пекся на ступеньках крыльца. Весь сморщившийся, оскалившийся от яркого света, я то и дело, как только она начинала говорить, чуть наклонял голову и, глядя на нее, щурился и приставлял козырьком ладонь к глазам. Когда говорил сам — отворачивался, показывал ей свой профиль и, вздыхая, скалился огороду.
К тому времени она уже пару недель жила с нами, но в столь интимной ситуации мы оказались впервые. Раньше, когда мы оставались одни, она, как правило, издевалась надо мной или, что называется, крысилась, не давая мне к ней подойти. Один раз предложила мне препарировать с ней лягушку. Я отказался и заявил, что это бессердечно. Она назвала меня трусом и высказала сожаление, что меня ей не разрешат препарировать. Но иногда она была удивительно доброй.
Солнце пульсировало на скамейке, траве и песке под шуршащими ветвями. От листвы на ее щеку, загорелое плечо и платье падали переливающиеся блики-зайчики. Они же суетились на темной заскорузлой скамье, о которую она опиралась тонкой слегка вывернутой рукой. С порывами ветра ветви над лавочкой раскачивались и шелестели как бубнами, и тогда зайчики на Симе разом сходили с ума, или, точнее, теряли головы.
Кроме ее голоса и лиственных шорохов ухо различало отвлеченные звуки, сливающиеся из тонких повизгивающих голосков невидимых детей, и еще чей-то голос округло звал: «Ми! Ха! Ми! Ха!», но Ми и Ха никак не отзывались. Как комета, резким мастерским зигзагом появилась и испарилась отвлекшая меня муха.
— Что-что? — не уловил я ее слов.
— Иди-ка ко мне, говорю.
Душа моя тут же провалилась куда-то в холодок у копчика. «Что бы это значило? Кажется, пропустил что-то важное».
— Садись сюда.
— Зачем? — говорю, будь я неладен.
— А чего ты так далеко? Ты что, боишься меня? — При этом она подозрительно прищурилась.
Я героически встал и разделил с ней ту самую пульсирующую тень под ветками. Сердце у меня взлетело откуда-то из штанов под самое горло и забилось там как пойманный воробей. Я весь таял, маялся и был как наэлектризованный от пристального ее взгляда, сиявшего теперь так близко от моей предательски розовой щеки.
— А девочка у тебя есть? — спрашивает кокетливо.
— Ясно же и так, — отвечаю, безуспешно ловя очередную проворную муху.
— Вот так здорово! А раньше ты говорил, что ты никогда не влюбишься.
«Я этого чего-то не припомню», — подумал я про себя, а вслух ответил:
— Какие только в детстве мы не приносим клятвы и обещания.
— Когда же свадьба?
Тут я внезапно придумал перестегнуть ремень на сандалии.
— Натирает, гадина.
— А давай босиком ходить, — говорит она и, уперев пятку в носок, сбрасывает тапочку за тапочкой.
— Стекла много.
— Струсил! Струсил!
— Ладно, пойду, — говорю. — Дел у меня уйма. — А сам думаю: «Что же я, дурак, делаю?»
Суетливо-деловито-лукаво встаю, потягиваюсь, неповоротливо изгибаясь.
— Стой! — вскакивает. — Закрой глаза.
— Зачем это еще?
— Ну закрой.
Ее тень заполонила внутреннюю красноватую сторону моих век, я почувствовал ее бархатный запах, ее горячее дыхание, скользнувшее по моей словно ворсистой щеке. Она прикоснулась к моим вискам, и я едва успел увернуться от поцелуя, что привело ее в восторг, едва не перешедший в истерику.