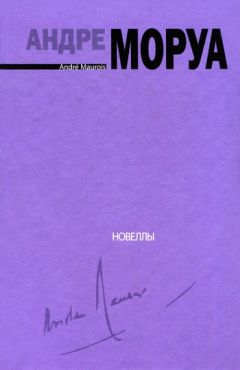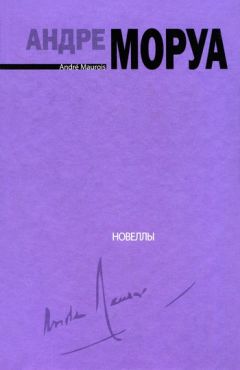Шандарахнутое пианино - МакГуэйн Томас
В общем, комический этот роман — на самом деле очень грустная книга. О несбывшихся надеждах, о похороненных или так и не родившихся замыслах, о невоплотившихся планах. О предательстве времени — хотя время ничем нам и не обязано. Этим нам она и дорога до сих пор — последней своей строчкой, в частности. Потому что мы же не в блендере родились.
Томас Макгуэйн
ШАНДАРАХНУТОЕ ПИАНИНО
Эта книга — моим матери и отцу.
По спокойной глади моря
любая лодка
гоголем плывет.
1
Много лет тому назад дитя шандарахнуло из мелкокалиберной винтовки с дерева по пианино в открытые летние окна соседской гостиной. Дитя звали Николасом Болэном.
Будучи стащен с дерева хозяином пианино, а мелкашка — разбита о камень и выброшена, — он, удерживаемый за шиворот в гостиной, вынужден был разглядывать пианино в упор, копаться у него в нутре и видеть порванные струны, щепастые дыры, сквозь которые стройные столпы света воспламеняли внутри пианино кружочки тьмы.
— Ты мне испортил пианино.
Дитя потом вспоминало громадное крыло крышки у себя над головой, тьму, рваные струны, завивавшиеся вокруг самих себя, запах пряности и неожиданную мысль, что пианино, груженное пряностями, морем приплыло с Индских островов без дырок от пуль, из-за которых пошло бы на дно, все звучное от нерваных струн, крышка красного дерева режет ветер, а внутри укрыт влажный и душистый груз специй.
Ну и мысль.
Уже после — зубы мудрости, полный ужас: один выскальзывает легко, словно апельсиновое зернышко из пальцев; другой не так прост, там требуется надрезать клапан кожи и долбить тугой свиль корней и нервов насквозь, зуб изымается осколками, а из воспалившегося провала сверкает сама его смертность.
Затем: поездка на дедову ферму. Брошенную. Окна пусто посверкивали на сенокосное поле, полностью заросшее лебедой. Из крылатых костянок лапины на трухлявой древесине покоробившихся ставень получались мягкие черные луны. Прикрывая козырьком глаза у окна передней веранды и заглядывая в старую кухню, он узрел там трубы неисчислимых разъемов, торчавших и целивших в пустоту; а в полусвете дальнего угла белый эмалированный титан, на боках выступила сыпь ржавчины, присел чудищем. Он пнул парадную дверь, и та распахнулась настежь, закачалась; из замка посыпались чересчур длинные шурупы. Он пустился исследовать, но бросил в ванной, где сама ванна легонько замерла танцовщицей на чугунных львиных лапах, краны пересохли, все выпуклые.
Много лет тому, но, думал он, прямым следствием женщина сидела на синей табуретке, нападала на свои волосы черепаховой расческой. А за нею, на кровати — Николас Болэн, ее соблазнитель, целился меж двух первых пальцев правой ноги, жалея, что та — не винтовка Гэранда {2}.
От той эпохи подобного осталось сколько угодно, но горсть вот такого, казалось, мостит прямую дорожку к безумию: веснушчатое лицо маклера, к примеру, его мягкие жирные глазки и его совершенно личиночий голос.
Он еще не дорос до необходимости устанавливать подобные связи, катя по пустому городу ранним утром, красноглазым, в купальном халате, испачканном яйцом, сунув по пальцу в оба угла рта и оттягивая его вниз до гротесково белеющей щели, сквозь которую проталкивается язык. Поскольку его сочли занятно опасным, служители снабдили его холщовым пальто с длинноватыми рукавами. Это было оскорбительно и избыточно.
С тех пор уже прошло какое-то время, и поправлялся он дома. Если ему чудилось — иногда, по ночам, — он подходил к окну спальни, рассупонивался и облегчался на грецкие орехи, деревья лучились под ним в лунном свете. Иногда он варил яйца на электрической плитке и забывал их съесть или входил в чулан и стоял в темноте посреди пыльной обуви. У него была старая виолончель, выкрашенная в синий, и он на ней часто пилил. Однажды накинулся на струны с плоскогубцами, и на этом всё.
Родня сказала, что к музыкальному инструменту его подпускать нельзя.
Затем, уже когда у него все так хорошо получалось в школе, он рванул на мотоцикле. И нынче та поездка возвращалась к нему мелкими счастливыми вариациями и эпизодами. Любому было ясно, что он опять что-нибудь эдакое отчебучит. Даже материна подруга, руководившая «Симфониеттой „Лонжин“» {3}, предвидела, что он намерен нечто подобное отмочить. Она преподавала фортепиано, и Болэн от нее натерпелся.
Но помнил Болэн лишь ту поездку через всю страну. Сидел он на английском «бесподобном» мотоцикле {4}и направлялся в Калифорнию. Небраска ему показалась такой пустой, что порой он не мог понять, движется или нет. То были дни земельных банков {5}, и приходилось следить, чтоб не сбить на дороге фазана. Болэн интуитивно чувствовал, что одного взрослого петуха достаточно, чтобы обездвижить английский гоночный аппарат. Позднее он припомнил, как два ковбоя под Вёрнэлом, Юта, на ураганном ветру гонялись по всей откормочной площадке за пятидолларовой бумажкой.
Из Лордзбёрга, Охайо, в Рино, Невада, с ним ехала девушка, она и купила ему фунтовую банку «Сиреневого бриллиантина Флойда Коллинза», чтоб у него волосы на мотоцикле оставались на своем месте.
А Калифорния с первого взгляда оказалась жалкою, прекрасной дуростью Золотого Запада и бурленьем упрощенческих желтых холмов с металлическими насосами под ветряками, невозможными автотрассами к краям земли, прибрежными городами, лесами и хорошенькими девушками, у кого хвостики по ветру. В кинотеатре Сакраменто шел «Мондо Фройдо» {6}.
В Окленде он видел, как два ребенка трущоб сражаются мечами на куче шлака. В Пало-Альто одутловатый фат в джодпурах на грани разрыва кричал из ворот роскошной конюшни: «У меня лошадь обмаралась!» А одним промозглым вечером на Юнион-Сквер он слушал, как дикошарая юная женщина разглагольствует о том, что видела, как нежных бабуль насилуют зомби-«киванисы» {7}, видела, как негодяи-«ротарианцы» {8} мутузят пасхальных заек в угольном погребе, видела, как Ирвинг Бёрлин {9} покупает в Куинзе «ориндж-джулиус» {10}.
Весной того года в Сан-Франциско было темно от свами. Надолго он не задержался. До осени жил к северу от Сан-Франциско в съемном домике, в городке Болинас. Память об этом нынче обособила те месяцы до единственного утра, когда он поднялся на заре и подошел к окну. Глядя через луг — южную оконечность низкой заросшей столовой горы, на которой он жил, — Болэн видел серебристый китовий очерк тумана, что накатывал с моря, утишенный, покрывая собою Болинас, лагуну и дальние предгорья. Эвкалипт вокруг дома благоухал под ранним влажным солнцем и полнился птицами. Раскочегарив мотоцикл, он покатил по Видовой дороге к океанскому ободу столовой горы, прямиком к стене тумана на утесе. Чуть ли не по самому краю свернул на Террасную дорогу и довольно быстро стал опускаться сквозь эвкалипты и кедры, вообще-то на предельной скорости, через повторы поворотов, запахи, минуя его нос, попадали прямо в легкие, зелень над головой просеивала и разбрасывала тени, нырки дороги чашками своими собирали солнечный свет, виражи развертывали ему тень, вся дорога уплощалась, скользя вдоль основанья Малой Столовой, вниз по ребристому бетонному скату на пляж, где он оказался в тумане, который солнце растапливало на ленты, а сам пляж темен, исчеркан, с мягкими бороздами, точно его контурно вспахали; и повсюду через песок высовывала рыло скальная подкладка, и Болэну приходилось тщательно рулить, не сбрасывая скорости, переднее колесо слегка вело, покуда он не доехал до рифа Дагзбёри, где некогда поймал большого стыдливого осьминога оттенка бессчетных подвядших тюльпанов, а также таскал джутовыми мешками мартышколиких морских вьюнов, скорпен и сердцевидок — фураж. Теперь он взялся собирать мидии, нетерпеливо сдергивал их с камней, не столько философски стараясь жить дарами природы, сколько просто желая дважды в неделю есть мидии, отваренные в горном белом третьего отжима, шестьдесят центов за кварту, и фенхеле. Закончив работу, он уселся на самом крупном валуне в конце рифа, чье основанье окружило дрейфующей бурой водорослью, морской травой и щепками от разбитой крышки люка. Туман отступил до почти кругового периметра, в котором сияло фиолетовое солнце. Море стояло шеренгой дальней ртути. По краю моря в едва ль не гнилостном соленом воздухе наперегонки бегали песчанки. И Болэн, думая о доме и зная, что домой он вернется, с некоторой отчетливостью увидел, что как гражданин он ни в малейшей мере не добропорядочен. Понимать это было в некотором смысле приятно. Как только он стал считать себя общественным мертвым грузом, на него снизошло нечто вроде энергического успокоенья, и он уже не чувствовал, что просто ищет себе неприятностей.