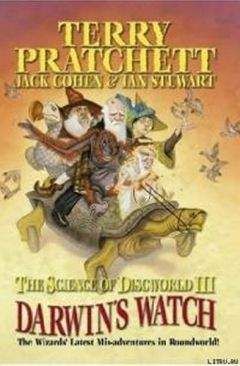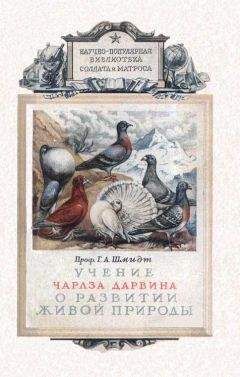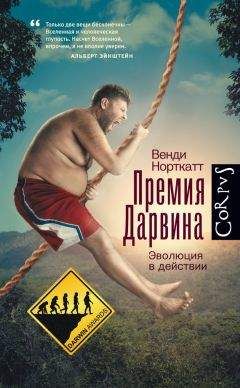Призраки Дарвина - Дорфман Ариэль
Лицо моего отца. Он уставился на нарыв полароидного подобия меня, как если бы это был дьявол во плоти. А так и было, я не сомневался в этом много лет. Но отец тогда не поверил своим глазам, пробормотал «нет, нет, нет» и сунул улику в карман, скомкав с силой, как будто это ядовитый червь, а не фотография, с такой тревогой и отвращением, что я испугался, уж не читалось ли мое недавнее эротическое посвящение в румянце на щеках, уж не догадался ли мой родитель по пылающему лицу, по какому-то красноречивому прыщику или ухмыляющейся капле пота, скатившейся с губ, о том, что произошло несколько минут назад в спальне наверху, когда Питер Гэбриэл напевал о поцелуях бабуинов в джунглях. Увы, хотя я часто молился, чтобы это было что-то настолько несущественное. Нет, нет, нет. А потом он сказал: «Дай-ка я сделаю еще один снимок, а то этот какой-то нечеткий. Надо сказать ребятам из лаборатории, что они не исправили глюки в последней модели. Не хотелось бы отзывать всю партию». Как будто проблема была чисто техническая и в защите нуждалась только его драгоценная компания «Полароид».
Итак, он согнал нас, всю семью, в кадр и снова щелкнул. Второй важный щелчок в моей жизни. Второй щелчок, возможно, еще хуже первого, потому что он повлиял на все, что последовало далее. Потому что на этот раз отец позволил посмотреть снимок — он был вынужден это сделать! — моей матери, и на ее прекрасном лице показалось отвращение, пока она пыталась убрать фотографию подальше от меня, но я среагировал мгновенно, вырвал снимок из ее рук и…
Там был я.
Ну, не совсем так. Среди всех этих привычных, обычных лиц выделялось только мое, то есть не мое.
Мое тело. Мое место за столом. Мама слева от меня, средний брат Хью справа, они оба лучезарно улыбаются в камеру, в то время как младший брат Вик нетерпеливо протискивается вперед.
Но на месте того, что четырнадцать лет было моим лицом, виднеется другое, лицо какого-то незнакомого молодого парня.
Глаза этого человека, копна спутанных черных волос, курносый нос и высокие скулы, толстые губы аборигена с едва заметным намеком на полоску белых зубов и горящий загадочный вызывающий взгляд — о, если бы взглядом можно было убить, если бы…
Глаза, темные глаза…
Мой посетитель.
Хотя я еще не называл его так, не знал, что он будет безмолвно появляться снова и снова, и всякий раз, когда меня фотографировали или снимали на видео, причем в любом формате, будь то портрет или групповой снимок, он никуда не исчезал, возникая непрерывно, неумолимо, сливаясь со мной так, будто мы родились вместе из одной беззвучной матрицы.
Его лицо вырастало из моей шеи и плеч, присоседившись, как молчаливый, безумный тотем. В нем была лишь одна знакомая черта: короткая густая грива, казавшаяся никудышной имитацией прически в стиле «Битлз» — легкое дуновение современности и эхо, делавшее лицо еще более диким и опасным, возможно, потому, что волосы доходили почти до бровей, затеняя их, отчего казалось, что белки глаз блестят еще ярче.
— Опять эти твои шуточки, — буркнул отец.
Не то чтобы он верил в это, просто нужно было что-то сказать, и вот уже я главный проказник и шалопай, шучу, на радость всем, особенно моей озорной матери и любительнице розыгрышей Кэм. Отец тянул время, пытаясь втиснуть это ненормальное происшествие в некое подобие порядка, готовый винить в произошедшем всех и вся, кроме безгрешной и священной модели «SX-70 Sun 600 Series».
А я тоже тянул время. Подхватив реплику отца, я спросил братьев, уж не их ли это рук дело, не сговорились ли они заслонить мое лицо маской так быстро, что никто и не понял. Я тоже делал все возможное, чтобы найти разумное объяснение случившемуся, когда продемонстрировал им фото и в лоб обвинил в…
— Мы ничего такого не делали, Рой! — хором воскликнули они. — Богом клянемся! Провалиться нам на этом месте, мы не стали бы…
— Это какая-то ошибка, Фицрой, ошибка, — поддакнула мать, но глаза ее казались такими же бешеными, как у незнакомца на полароидном снимке. Нет, в них не плескалась ночная тьма, но они были дикими и куда более испуганными. — Папа эту последнюю модель только вчера домой притащил. Кто знает, что она отчебучивает. Попробуй еще разок, Джерри.
Щелк. Номер три. Крупный план. Только мое лицо, больше ничего.
Его лицо. Больше ничего.
Я схватил снимок прежде, чем кто-то успел меня остановить, и рванул к дверям, потом молнией вернулся за ключами от мопеда, выскользнул из рук отца, тщетно пытавшегося меня задержать, а затем увернулся от хищных лап братьев, которые начали наслаждаться спектаклем. «Дай мне! Дай мне! — верещали они наперебой. — Я тоже хочу увидеть эту обезьяну! Тоже хочу посмотреть на Роя в обличье шимпанзе!» Мама в ужасе шикнула на них, а я лишь молча зыркнул, и братья затихли. О, если бы взглядом можно было убить. Они понимали, что я старше и сильнее и рано или поздно отомщу. Но не сейчас, еще рано. Пока что я свернул на подъездную дорожку и помчался к дому Кэм. Кому еще я мог показать этот снимок, кто мог утешить меня, снять злые чары, заявить, что это всего лишь случайность, что-то, что рассеется и не повторится с чьей-то другой камерой, вчерашней или завтрашней моделью?
Она должна быть дома.
Я знал, что Кэм будет ждать меня, чтобы вместе пойти в школу, и она проснулась тем утром с мыслями обо мне и моем дне рождения. Она думала обо мне, пока готовила завтрак для отца и смотрела вслед его «мустангу». Входная дверь открыта, чтобы мне не нужно было звонить в звонок. Мне всегда здесь будут рады.
Но не той фотографии, которую я ей показал.
— Это кто? — спросила Кэм.
Я сказал, что знать не знаю и не хочу.
Кэм не унималась:
— Кто он? Чего он хочет?
Поиметь меня, вот чего он хочет. Эти слова я даже не потрудился выпалить. Я уже чувствовал, как между нами ширится пропасть и лицо этого примата отделяет меня от нее и от себя самого. Потому что я не мог даже признаться, что, по моим подозрениям, эта напасть из-за утреннего проступка, когда я предал ее, занимался сексом с самим собой вместо того, чтобы проявить терпение, изливая пустой комнате то, что должен был оставить внутри нее, слушая Питера Гэбриэла, а не ее бормотание и охи-ахи мне в ухо. Я не мог сказать Кэм эту правду, как и любую другую. Может быть, это случалось с каждым мальчиком, который… Может быть, это самый загадочный обряд посвящения, секрет секса и полового созревания, о котором никто не хотел говорить; возможно, Кэм возненавидит меня зато, что я растратил себя, и если я притворюсь, что ничего особенного не произошло, то завтра проснусь и другое мое фото известит о возвращении к нормальной жизни. Может быть, я ошибся, что рванул к ней, веря, что у нее найдется решение… Тогда как у нее был лишь вопрос: кто это?
Это был правильный вопрос, но я не был к нему готов. Я мог думать лишь о себе: почему я? Ну почему я? Это был нескладный и беззвучный ответ на ее вопрос. Беззвучный, потому что я не произнес этих слов, просто позволил им оформиться и разрывать мой разум, преодолевая ставшую еще темнее пропасть между нами. Кэм было интересно, кто этот парень, а мне было наплевать, я хотел лишь, чтобы он исчез, а она обняла бы меня, предложив приют моему запятнанному телу, но этот парень уже копал яму вокруг меня, возводил стену, стену из его глаз, волос и смуглой кожи. Он сделал нас с Кэм чужими.
Я посмотрел на Кэм так, словно никогда не видел раньше, как будто я уже сейчас мог предсказать, что ждет впереди: билеты на «Роллинг Стоунз», выброшенные в мусорку, дни, складывающиеся в недели, месяцы, а потом и годы, когда мы не будем разговаривать с друг другом, станем избегать общества друг друга; я мог бы подойти и жадно поцеловать ее в губы и притвориться, что мы одни в комнате, под звездами или на ее постели, но нас теперь всегда трое. Да, его яд начал просачиваться во все щели, для начала проникнув в Кэм.
— Ты… — заикаясь, просипел я. — Ты… — и с трудом выдохнул то, что за этим последовало, но Кэм все явственно прочла по моим глазам, не испугалась, но все же отступила на шаг, такова была жестокость моего разочарования. — Никому не смей рассказывать об этом, никому, ни одному человеку, даже отцу, ни единой душе, а не то…