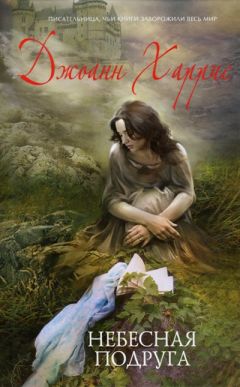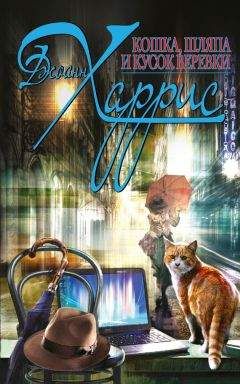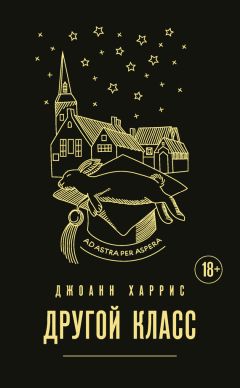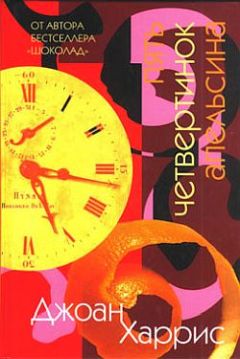Джоанн Харрис - Небесная подруга
Прозерпина задумчиво и печально смотрит на что-то, находящееся за пределами картины. Ее лицо и руки на полотне темном и узком, как гроб, поразительно бледны, глаза бездонны, словно преисподняя, губы окрашены кровью. Она прижимает к груди гранат, позабыв о нем, и золотистое совершенство плода испорчено кровавым надрезом, разделившим его пополам, – свидетельство того, что Прозерпина уже отведала гранат и утратила свою душу. Обреченная проводить половину каждого года в Подземном царстве, она тоскует, глядя на далекое солнце, отблески которого играют на увитой плющом стене.
Нас убеждают в это поверить.
Но у нее, царицы Подземного царства, множество обликов, в этом ее власть и ее очарование. Она стоит, бледнее фимиама, и свет квадратом обрамляет ее лицо, не касаясь кожи. Прозерпина сияет собственным блеском, ее поза выражает вековую усталость, но исполнена силы, берущей начало в ее неуязвимости. С ней невозможно встретиться взглядом, она упорно глядит куда-то за ваше левое плечо, на кого-то другого – возможно, на еще одного избранного, обреченного на ужасное блаженство ее любви. Плод в руке Прозерпины ал, как ее губы, как сердцевина граната. И кто знает, какие страсти, какие восторги таятся в этой алой плоти? Какие неземные наслаждения сокрыты до поры в этих зернах?[1]
Дэниел Холмс. Небесная подругаПролог
Вот розмарин, это для воспоминания; прошу вас, милый, помните.
У. Шекспир. Гамлет (Перевод М. Лозинского)В детстве у меня было много игрушек. У родителей хватало денег, чтобы покупать их, но я вспоминаю до сих пор лишь одну игрушку – поезд. Не заводной и даже не тот, что надо тянуть за собой на веревочке, а настоящий: он летел вперед сам, оставляя за собой шлейф белого пара, все быстрее и быстрее стремился к недостижимому пункту назначения. Это была юла с красным дном и прозрачным целлулоидным верхом, под которым крутился и сверкал, как драгоценность, целый мир: крохотные изгороди и дома, нарисованный край ясного, ослепительно синего неба. Когда я жал на рукоятку («Будь осторожен, Дэнни, не раскручивай юлу слишком сильно!»), из тоннеля, дымя трубой, выезжал состав, похожий на уменьшенного с помощью колдовства и посаженного под стекло дракона. Сначала он двигался медленно, но постепенно набирал скорость, пока дома и деревья не сливались в одну сплошную линию, а скрип юлы не тонул в триумфальном свистке паровозика, как будто тот пел от счастья, приближаясь к цели.
Мама, конечно, говорила, что если слишком быстро вращать юлу, она сломается (и я всегда был осторожен, на всякий случай). Но я верил: однажды, стоит мне потерять бдительность, отвлечься хотя бы на миг, поезд сможет добраться до своего таинственного, недостижимого пункта назначения и – как белка, вдруг выпрыгивающая из колеса, – вылететь в реальный мир. Тогда сверкающий огнями и разбрасывающий искры монстр ворвется в мою тихую детскую, чтобы отомстить за столь долгое заточение. Возможно, игрушка так нравилась мне еще и потому, что я знал: поезд – мой пленник и ему не сбежать, ведь я всегда начеку и могу наблюдать за ним, когда захочу. Небо, изгороди, безумная гонка принадлежали мне целиком, я приводил этот мирок в движение и останавливал по собственному желанию – потому что был осторожен, потому что был умен.
А может быть, и нет. Не припомню, чтобы в детстве я отличался капризностью. И уж точно не имел болезненных склонностей. Это Розмари сделала меня таким – она сделала такими всех нас. Она снова превратила нас в детей, она высилась над нами, как злая ведьма из пряничного домика, а мы бегали по кругу, словно поезда под целлулоидной крышкой, пока она смотрела, улыбалась и нажимала на рукоятку, раскручивая свою юлу.
Мысли мои путаются; плохой признак, как морщины вокруг глаз и проплешина на макушке. Это тоже вина Розмари. Когда священник произнес: «Прах к праху», я оглянулся и вдруг увидел ее – она стояла под рябиной, глаза смеялись. Если бы посмотрела на меня, я бы, наверное, закричал. Но она смотрела на Роберта.
Роберт был бледен, в тени шляпы его лицо казалось осунувшимся и испуганным, но не потому, что он тоже видел Розмари. Ее заметил только я, и через секунду она исчезла; одно движение, перемена света, и я не различил бы ничего. Но я заметил. Вот поэтому и пишу вам – вам, в будущее за гранью могилы. Я хочу рассказать о себе, о Роберте и Розмари… да, о Розмари. Потому что она все еще помнит, понимаете? Розмари помнит.
Один
Стоял прекрасный день, свежий и по-осеннему ясный. Землю устилали яркие листья, а небо было таким же круглым и голубым, как то, под которым много лет назад ездил мой паровозик. Людей пришло немного – я, Роберт, еще кто-то; все в черном, лица – расплывшиеся пятна в солнечном свете. В моей памяти остался лишь Роберт, бледный и нелепый от горя. Мне было больно на него смотреть.
«Только белые цветы» – гласило объявление в «Кембридж ньюс». В тот день сотни белых цветов, лилии, розы и огромные мохнатые хризантемы, покрыли место погребения и тропинку, увенчали опущенный в землю гроб. Но их ошеломляющие ароматы не могли заглушить запах могилы, и когда священник произнес последние слова заупокойной службы, я отпрянул от разверстой ямы, как от края пропасти. Я скверно себя чувствовал, но голова была странно легкой. Может быть, из-за цветов.
Роберт выбрал для Розмари прекрасное место – в отдаленной части кладбища, справа у стены, где сплетались ветви рябины и раскидистого тиса. Дерево смерти росло рядом с деревом жизни, их яркие ягоды смеялись над людской скорбью, словно деревья заключили союз с ясностью дня и в честь похорон оделись в самые радостные цвета. Я подумал, что летом тут будет хорошо – тень, зелень и тишина. Болиголов и другие высокие травы скосили, чтобы расчистить площадку для могилы, но они вырастут снова.
«Вырастут снова».
Эта мысль меня встревожила, но я не мог понять почему. Пусть себе растут, пусть заполнят это тихое место, пусть навеки скроют и могилу, и надгробие, и саму память о Розмари, пусть из ее незрячих глаз взойдут цветы. Если бы на этом все закончилось, думал я. Если бы можно было все забыть. Но Роберт, конечно, будет помнить. Ведь он ее любил.
Впервые Розмари появилась в нашей жизни весной 1947 года. Я шел над водосливом по мосту Магдалины – мы с Робертом собирались встретиться в кафе и пойти в библиотеку. Мне было двадцать пять лет, я оканчивал университет и писал диплом о прерафаэлитах (весьма опороченное на тот момент времени течение в изобразительном искусстве, которое я надеялся снова ввести в моду). Я жил в мире книг и абсолютных истин, что вполне подходило для моей замкнутости и некоторой одержимости. В Кембридже царил покой, как и в минувшие столетия, – идеальное место для занятий, для погружения в себя вдали от прогресса и его шумных достижений. Я жил в прошлом и был там счастлив.