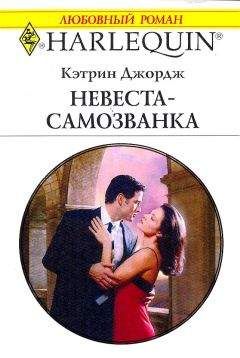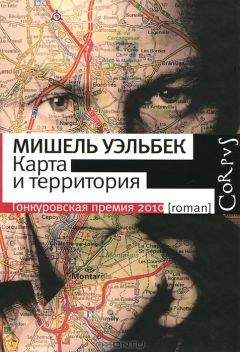Мишель Уэльбек - Возможность острова
Сдав экзамены на бакалавра, я записался на курсы актёрского мастерства; потекли довольно бесславные годы, я становился все злее и, как следствие, все саркастичнее; в результате успех наконец пришёл, да такой шумный, что я сам удивился. Я начинал со скетчей об отчимах и мачехах, о журналистах из «Монд», вообще о серости среднего класса: мне отлично удавалось изобразить инцестуальные позывы интеллектуалов на пике карьеры, воспылавших к дочерям или падчерицам с их голыми пупками и торчащими из-под джинсов стрингами. Короче, я был «язвительным наблюдателем современной действительности», и меня часто сравнивали с Пьером Депрожем.[2] Продолжая работать в жанре «театра одного актёра», я время от времени соглашался выступить в телешоу — из-за их широкой аудитории и непроходимой пошлости. Я не упускал случая подчеркнуть эту пошлость, впрочем, по-умному: ведущий должен был чувствовать угрозу, но не слишком серьёзную. В общем, я был «крепкий профессионал» с чуть-чуть дутой репутацией. Но в конце концов, не я один такой.
Это вовсе не значит, что мои скетчи не были смешными; смешными они как раз были. Я в самом деле был язвительным наблюдателем современной действительности; просто мне казалось, что это элементарно, что в современной действительности и наблюдать-то почти нечего, настолько мы все упростили, обкорнали, столько уничтожили барьеров, табу, ложных надежд и несбыточных чаяний; ничего почти и не осталось. В социальном плане были богатые, были бедные, а между ними несколько шатких ступенек — социальная лестница: над восхождением полагалось издеваться; плюс ещё одна возможность, более реальная, — разорение. В плане сексуальном имелись люди, возбуждавшие желание, и люди, не возбуждавшие никаких желаний: простенький механизм, пусть и с некоторыми чуть более сложными вариациями (вроде гомосексуализма и прочего), который легко сводится к тщеславию и нарциссическим состязаниям, прекрасно описанным французскими моралистами ещё триста лет назад. Конечно, существовали ещё и порядочные люди — те, кто работает, кто занят в эффективном производстве потребительских товаров либо кто несколько комически или, если угодно, патетически (но я-то был в первую очередь комиком) жертвует всем ради детей; те, у кого в молодости не было красоты, позднее — честолюбия и всю жизнь — денег и кто, однако, всей душой, искреннее, чем кто-либо, привержен ценностям красоты, молодости, богатства, честолюбия и сексуальности; так сказать, соль земли. На этих, как ни прискорбно, нельзя было даже построить сюжет. Иногда я вводил кого-нибудь из них в свои скетчи, для разнообразия, для реализма; в действительности же мне это стало надоедать. Что всего хуже, я числился гуманистом — конечно, гуманистом рассерженным, но гуманистом. Чтобы стало понятно, вот одна из шуток, в изобилии украшавших мои спектакли: «Знаешь, как называется сало вокруг вагины?» — «Нет.» — «Женщина».
Как ни странно, мне удавалось вворачивать подобные перлы и при этом иметь хвалебные рецензии в «Элль» и «Телераме»; правда, с появлением комиков-арабов сальные шуточки в мачистском духе опять вошли в моду, а я пошлил не без изящества: отпущу вожжи и опять приберу, все под контролем. В конце концов, ремесло юмориста и вообще юмористическое отношение к жизни тем и хорошо, что позволяет безнаказанно вести себя как последняя свинья и в придачу стричь с собственной мерзости весьма недурные купоны, как в плане сексуальных успехов, так и наличкой, да ещё при единодушном одобрении окружающих.
На самом деле мой пресловутый гуманизм имел под собой весьма шаткие основания: вялый наезд на налоговые службы да намёк на трупы негров-нелегалов, выброшенные на побережье Испании, принесли мне репутацию левака и правозащитника. Это я-то левак? При случае я мог ввести в свои скетчи каких-нибудь борцов за новый мир, сравнительно молодых и не то чтобы откровенно антипатичных; мог при случае и подпустить демагогии: повторяю, я был крепким профессионалом. К тому же внешне я смахивал на араба, что сильно облегчало дело; в сухом остатке вся левизна в моих скетчах сводилась к антирасизму, вернее, к антибелому расизму. Не совсем, впрочем, понятно, откуда взялась у меня арабская внешность, с годами приобретавшая все более характерные черты: мать моя была по происхождению испанка, а отец, насколько я знаю, бретонец. Моя шлюшка сестра, например, была отчётливо средиземноморского типа, но в два раза белее меня и с прямыми волосами. Спрашивается, всегда ли мать свято хранила супружескую верность. Может, моим родителем был какой-нибудь Мустафа? Или — ещё вариант — даже еврей? Fuck with that[3]: арабы толпами ходили на мои спектакли, евреи, впрочем, тоже, хоть и в меньших количествах, и все покупали билет за полную стоимость. Что нас действительно волнует, это обстоятельства нашей смерти; обстоятельства рождения — вопрос второй.
А уж права человека мне точно были по барабану; в лучшем случае меня хватало на то, чтобы интересоваться правами собственного члена.
В этом плане моя карьера была, в общем, не менее удачной, чем дебют в курортном пансионате. Женщины, как правило, лишены чувства юмора, поэтому считают юмор одним из мужских достоинств; так что я не испытывал недостатка в возможностях расположить свой половой орган в соответствующем отверстии. Честно говоря, во всех этих соитиях не было ничего сногсшибательного. Комиками обычно интересуются женщины уже в возрасте, лет под сорок, начинающие чувствовать, что дела их плохи. У одних толстый зад, у других — обвислые груди, а у некоторых и то и другое вместе. Короче, заводиться особенно не с чего, а когда эрекция слабеет, становишься не таким озабоченным. Они были ещё не старые, отнюдь нет; я знал, что на пятом десятке они вновь начнут искать лёгких, успокоительных, фальшивых отношений — но уже безрезультатно. А покуда я мог лишь подтвердить (честное слово, совершенно невольно, ничего приятного в этом нет), что их эротическая ценность снизилась; я мог лишь подтвердить их первые подозрения, внушить им, сам того не желая, безнадёжный взгляд на жизнь, где их ожидала не зрелость, нет, а попросту старость; не новый расцвет в конце пути, а бесчисленные фрустрации и страдания, поначалу едва заметные, но очень скоро становящиеся невыносимыми; во всём этом было что-то нечистое, отнюдь не чистое. После пятидесяти жизнь только начинается, это правда; только вот кончается она в сорок.
Даниель24,1
Посмотри, там вдали копошатся маленькие существа; смотри же: это люди.
В угасающем свете дня я безучастно наблюдаю, как исчезает целый биологический вид. Последний луч солнца скользит по равнине, уходит за горную гряду, скрывающую горизонт на востоке, окрашивает пустынный пейзаж в красноватые тона. Поблёскивает металлическая сетка ограды, окружающей виллу. Фокс тихо рычит; наверное, чует дикарей. Я не испытываю к ним ни малейшей жалости, никакого родственного чувства. Для меня они просто обезьяны, чуть более смышлёные, а потому более опасные. Бывает, я отпираю ограду, чтобы помочь какому-нибудь кролику или бродячей собаке; но чтобы помочь человеку — никогда.