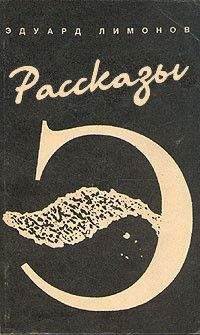Эдуард Лимонов - Дневник неудачника, или Секретная тетрадь
Еще одна была 24 часа. Маленькая, в чем душа держится. Тянет в постель — мне смешно. Затащила. А легла — грудка белая, женщина двадцати лет, да какая. Сидели в «Джоннис дэй» — ресторанчик в Вилледже — вино пили. — Люблю, говорит, тебя — свой ты мой — единственный. Вернулись, легли, а до самолета (улетала она) — два часа только. Как зверюшки — не растащить нас, еле расстались. Письмо написал — член мой, пишу, без тебя тоскует, без п. твоей. Ответила. И такое бывает.
Пристрастие к белому. — Четыре пары белых брюк — и все мало. И зимой в белых брюках хожу. Однажды в дождь, на грязном в аптауне Бродвее, ночью, — полупьяный русский интеллигент сказал мне восхищенно: «Ты как луч света в темном царстве. Вокруг грязь, а ты в белых брюках прешь, ошарашиваешь собой. Правильно!» Комплимент сделал.
Снег уже еле видим. Горизонтально-быстрый, мелкий. Через день у меня рождение. День моего рождения. Я проведу его один, изощренно что-либо сочиняя, питаясь мясом и вином. А потом пойду на Восьмую авеню и выберу себе проститутку. Недорогую. По-видимому, белую. Полукрасивую-полувульгарную.
Снег кончился. Постель моя, аккуратная впрочем, имеет в своем облике какой-то изъян, неполноценность. Глядя на нее со стороны, я это понимаю, только объяснить невозможно.
А сейчас загремел гром. То вдруг все освещается, то затемняется.
Если выйти из отеля около часу дня. И пойти по любой авеню в даун-таун, то постоянно будешь идти в солнце. И это тепло, даже если февраль.
Иногда даже в глазах очень богатых людей, чаще женщин, я вижу дикую грусть. Они воспитанны, прилежны, никогда не скажут, не нарушают. Но тут мне хочется обнять иссохшую старуху — бывшую красавицу — прижать ее седую голову к своей груди и гладить по снежным коротким волосам, говоря:
— Ну что, моя маленькая, ну успокойся. Ну, ничего.
Ну пусть так, ну что делать! Успокойся!
Маленькая моя!
A.M.
Я помню какие-то имена.
Особенно Манфред и Зигфрид.
Я не знаю, откуда они пришли, но они есть во мне — эти имена.
Манфред слдит на берегу — Зигфрид купается в озере.
Красивые белые кувшинки, — говорит Манфред.
— Я не знаю куда плыть! — кричит Зигфрид.
— Плыви на мой голос! — кричит Манфред.
Зигфрид выходит из воды. Манфред набрасывает на него какую-то ткань и его вытирает.
Вытирая, он и целует его одновременно.
Спускаясь с поцелуями по чистой коже Зигфрида, на полурасстоянии от земли он находит нечто. Губы его останавливаются в этом месте.
Музыка леса сопровождает затянувшееся свидание.
Что бы они потом ни надели — какие бы наряды.
Подадут ли карету или сядут в автомобиль.
Я люблю вечернее небо. Сужающийся летний вечер.
Тихую тоску собственной прошедшей юности.
И неожиданно Вас — мой милый друг.
Мой бледный, цветочный, танцующий друг.
Огородики Нижнего Ист-Сайда. Репа и морковь.
В Гарлеме зацветает чеснок.
На Пятой авеню роняет свои плоды на землю помойное дерево.
Ветер трясет золотые заболоченные бамбуковые рощи Вест-Вилледжа.
Поют птицы, летают стрекозы.
Мистер Смит и мистер Джонсон шагают по размытому левому берегу Бродвея в резиновых охотничьих сапогах. Время от времени Смит вскидывает ружье и стреляет в выпархивающую из зарослей утку.
Самое оживленное место — где еще сохранилась табличка «Вест — 49-я улица» — в этом месте единственная переправа через Бродвей. В развалинах на берегу меняют дичь на кофе и сахар, пушнину — на кости и рыбу, и продают одежду, в которой большая нужда.
Апрель. Хорошо. Воздух-то какой. Наконец-то можно согреться. Обитатели некогда Великого города, почесываясь, греются на солнце.
Нравится ли вам термин «гражданская война»? Мне очень.
Великое открытие
Я люблю безумие. Вся моя жизнь тому примером служит. Я культивирую не логику, а наслаждения. Мои болезненные ощущения доставляют мне удовольствие.
А когда мне нужно помучить другого человека, я выхожу ночью и ищу жертву.
Несколько раз я уже кое-что попробовал и был счастлив.
Сегодня я нашел доллар на улице. Потом я купил себе тюльпаны.
Позавчера я ударил свою жену ножом. Впрочем, она отделалась испугом.
С этой женщиной у меня таинственная связь. На первый взгляд у нас с ней простые отношения — она ушла от меня год назад. Но что может знать толпа обо мне и о ней?
Существует невидимое взгляду.
Кто-то из нас жертва, кто-то палач. По временам мы меняемся ролями. Даже самые умные люди ничего не поймут. В этом деле может разобраться только дьявол. Он же и заварил эту кашу.
На вид, знаете, она и, вроде, Лимонов. Но я же вам говорю, что дело куда сложнее.
Порой я гуляю, подняв воротник моей шубы. Для проходящих людей в витринах просто ботинки и шляпы. Для меня это давно не ботинки и шляпы, а резкие и таинственные символы и знаки, которые вещают, угрожают, а порой я от них спасаюсь, как от настоящих преследователей. Да они и есть настоящие — особенно те черные сапоги до колена с 45-й улицы — я их просто боюсь. Они определенной мелодией звучат, и улыбаются, и исходит запах.
Я люблю многое в городке, где сейчас живу. Он — Нью-Йорк — довольно обширен. Его мусор — самый красивый мусор в мире. Я знаю одного человека, который пытается мусор рисовать. Но у него пока плохо выходит, то есть рисует он хорошо и правильно, но мусор следует рисовать. Как цветы. Я знал одного художника — он был сумасшедший — ах, как он рисовал цветы! Он был моим другом, временами он спал под роялем. А вообще, это было так давно, что голова болит.
Мне, конечно, доступны простые забавы. Например, я жду весны. Я не говорю, что весна это благо — я жду ее как гниения — гниение же мне мило. Наконец набухшее за зиму вскроется и обнажится — вытечет гной, лица во многом станут говорить сами за себя, и городок станет огромным скопищем движущегося мяса — мясу присущи запахи и бесцельное броуновское движение — как обучили меня в школе, в химических и физических полутемных кабинетах умные еврейские учителя — размахивая колбами и ретортами.
Я никогда не был жесток. Я не поджигал собак и кошек, не обрубал хвостов или лап, не охотился на крыс или птиц. В полях и лесах я ходил бесцельно. Мучить животных или растения не доставляло мне удовольствия. И я не знал еще счастья мучить людей.
Я набрел на Великое Открытие за несколько дней до того, как мне исполнилось тридцать три года. Это была самая фантастическая пора моей жизни — я был на взлете — любимая женщина ушла от меня, дьявольски похахатывая, — я парил, я страдал каждый день и каждую ночь — я бился в истериках и мастурбациях — они были очень сложны. Я глотал собственную сперму, перемежая ее глотками вина — нектар и амброзия богов. Тогда-то наконец исчезла из моей жизни скука, и стал я жить празднично.