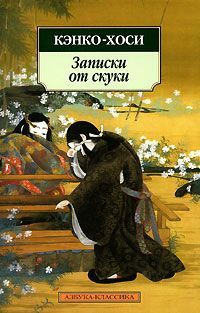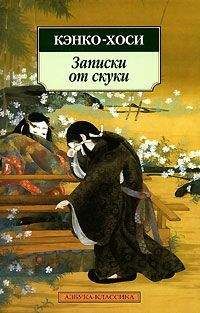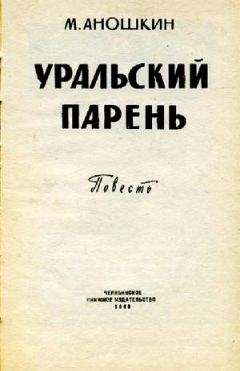Михаил Кононов - Голая пионерка
Нашли, чудаки, чем стращать, — расстрелом. Как говорится, напугали бабу толстым елдаком! Да что такое этот самый расстрел, если спокойно-то разобраться, товарищи? Пух — и ваших нет. Разговоров-то больше, чем хлопот, честное пионерское! Ведь расстреливают когда, ты ни боли почувствовать не успеешь, ни крикнуть — сколько раз наблюдала. Если, конечно, стрелять как следует, чтобы все пули легли в цель, кучно. И в этой связи для приведения в исполнение назначить бы следовало Саньку Горяева и Селиванова с Фроловым. Ну, и, конечно, Жохова Костю. Он сибиряк высшей марки, таежник, к тому же ворошиловский стрелок, белку в глаз бьет за три километра, если на спор, сам же и проболтался как-то по пьяному делу. Да разве же смерш послушает мнение рядового состава, разве советоваться станет, бляха-муха!
И потом, кстати, если вопрос поставить ребром, это ведь, вообще-то говоря, на эгоизм смахивает — под расстрел добровольно вставать, когда не сегодня-завтра предстоит все же завершить стратегическую операцию, задание секретное выполнить. Причем никто ведь другой справиться не в состоянии, только лично Мухе, единственной, может быть, на всю Красную Армию по плечу подобный подвиг. Ликвидировать главного немецко-фашистского дракона — это ведь вам, товарищи, не раку ногу оторвать, бляха-муха! Даже и стыдно при этом думать, расстрел планировать, в то время как задание недовыполнено. Вот если бы генерал Зуков на Муху надежды свои не возлагал, не оказал бы доверие секретное — не было бы тогда и ответственности перед ним, да и перед всей страной, если уж честно-то говорить. Чего уж там, не промокашка какая-нибудь безмозглая, догадалась давно: и в штабе фронта, и в самом Кремле насчет Мухиного задания уже в курсе дела и действия невидимого летучего агента под кодовым псевдонимом «Чайка» одобряют бесповоротно. Но пока что приказ не выполнен. Совершенно секретный приказ, что характерно, заметьте. Какой там, на хрен, расстрел, когда чуть ли не каждую свободную ночь приходится девушке вылетать в засекреченный рейд. Причем абсолютно без всякого самолета и совершенно безоружной практически. А ведь ни на какие курсы учиться не посылали, даже и памятки ни одной не прочла ни по тактике такого дела, ни по стратегии, ни по матчасти. Случись что в небе — так и схватиться не за что, жуткое дело! Ни мотора тебе, ни крыльев, как у нормальных летчиков, ни вальтера любимого в заднем кармане, даже, извините, без штанов, как чудачка какая-нибудь. А вся связь с землей — только голос генерала Зукова: «Вперед, Чайка! За Сталина! Родина слышит — Родина знает!» Это — святое. Смысл всей жизни. За все оправдание — и за. подделанные документы, и за малый рост, и за то, главное, что ты, все равно, как ни лезь из кожи вон, мужиком не станешь. А значит, ни о каких расстрелах не может быть и речи пока что, придется выкручиваться по обстановке. Наяву-то не во сне, тут генерал Зуков не направит, не выручит. А Вальтер Иванович и рад бы помочь, да где же его найти?
И снова, как ни крути, опять та же история получается, как с Павкой Корчагиным: умереть-то, конечно, гораздо легче и приятней, а вот ты попробуй выжить и победить — хоть кровь из глаз! Павка нас как учит? «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой». Но, я извиняюсь, товарищи, минуточку! Какая уж такая у Мухи невыносимость наблюдается в данный момент? Обута-одета, это первое. Раз? И шамовка, кстати, чуть ли не каждый день высшей марки, жируй себе от пуза. Во-вторых, люди вокруг — чистое золото, фартовые ребята, как в народе говорят. Это два, так? И задание есть. Особое! Секретное притом, сколько людей мечтают! Три получается? Да не три — сто три! Тридцать три миллиона! Только живи, паразитка такая, да радуйся. А не о расстреле каком-то там предательском мечтай, идиотка ты эгоистская! Резинка у нее, видите ли, рвется! А ты не зевай, росомаха, не жди, пока он порвет, сама трусы спускай заблаговременно. Ведь нервные же все, ранимые, давно уж привыкнуть пора, бляха-муха!
Нет, главное, что обидно? Как дура, сходила нарочно на речку, вымыла шею, как полагается. Без мыла, правда. Серого последний обмылочек, прозрачный уже, из рук, как лягушка, выпрыгнул и по течению уплыл. Не возвращаться же в землянку за трофейным, верно? Тем более, обертка с картинкой цветной — раскупоривать жалко: блондиночка, миниатюрная такая, на камне немецком лакированном сидит у речки, лахудра, ножки точеные поджала — прелесть! Причем название, между прочим, сам Гейне придумал, гансовский главный классик, еще в школе Вальтер Иванович наизусть учить заставлял эту муру — их вайе нихт вас золь эс бедойтен, — царство ему небесное, — «Лореляй». У Мухи волосы тоже блондинистые, но всегда с лишним каким-то оттенком: то зажелтеются на концах, как старая солома, то вдруг посмотришь — зеленые, русалочьи, буквально. А у немочки Лорелеи — ровненькие, нежные, голубоватые под луной, — глаз не оторвать! Этим-то мылом она их и моет, будьте уверочки!
Помывку, в общем, произвела. Трусики трофейные свежие беленькие натянула — на всякий пожарный случай. Резинка тугая, неразношенная, шелк в складочках, как накрахмаленный, шик-блеск — иммер-алигант! Три пары неношенных Володя-лейтенант в аккурат в четверг преподнес после боя, — мировой парень, скромный и надежный, как полагается. Потому что традиция такая в роте: с Мухой дружбу замарьяжил — будь уж добр, друг ситный, чтоб с бельишком трофейным вопрос был решен, — не нанималась каждое утро узлы вязать на резинке из-за невоспитанности вашей неотесанной да нетерпения вечного офицерского. Усвоили, слава богу, хоть самое-самое наконец. Сколько вкладывать в них приходится, сколько крови выпили, пока приучила все-таки вести себя как положено — хотя бы в разрезе обеспечения трусами — жуткое дело! Ведь фронтовые же условия все-таки, бляха-муха! Не говоря уж о лифчиках, их ведь на передовой днем с огнем, тем более, второй номер, самый ходовой. Уж и забыла, когда последний окончательно разодрали. С ночи до ночи соски зудят, причем все дойки в синяках, нечем прикрыться от сосунков. А ведь отдельные товарищи — хлебом не корми, дай грудь пососать, — а сами уже давно не сосунки, а папаши высшей марки, про детишек рассказывать любят между делом, фотки показывают, — чудаки, честное слово!
Всё теперь, товарищи, баста! Расстреляет Смерш-с-Портретом вашу Муху — некому будет вам и карточки показывать. Так что ложьте зубы свои на полку, кобели стоялые, а про титьки девичьи забудьте. Кончилось ваше бесплатное счастье, ни кусочка не останется на память, будьте уверочки. Не раз еще спохватитесь, поймете наконец, что не умели ценить.
Ох, и устала же от вас от всех, если честно! Жуть! Другой раз ведь так загоняет за ночь наездник какой-нибудь, боров, козел, так всю истеребит, иссосет, до синяков изомнет, — с утра и голову не поднять. Чаем крепким с водкой отпаивает Лукич полудохлую Муху. Голову ей поддерживает, как будто она пятилетняя какая-нибудь, да вдобавок больная. А у самого на усы слезы катятся. Вот его бы, дедульку трясучего, и поить с ложечки, да силы где взять? Истисканная, перемолотая вся в труху. В такое-то утро и взбредет в голову подлая мысль: а на том ведь свете легче, поди, живется. Тем более, если уже на этом добросовестно относилась, от коллектива старалась не отделяться. Так что, как говорится, что ни делается, все к добру, даже в некоторых случаях и расстрел, в частности. Ведь в иную ночь, особенно после боя, отдельные товарищи совсем совесть забывают: следующий уж под дверью, как говорится, груши околачивает, сами знаете чем, пока первый резинку на тебе рвет чуть не зубами, как будто сама смерть за ним гонится, а в тебя если дурака своего загнать успеет — спасется. Так и чувствуешь: весь он в тебе, прямо в сапогах, и стонет, скулит, ребятенок обиженный, и охает, — пожалей, мол, спаси, на тебя вся последняя надежда. А там уже слышно из-за брезента, и третьего принесло на радение, и четвертого: «К Мухе кто крайний будет, товарищи?.. Я за тобой, значитца, лейтенант! Слышь, земляк, оставь докурить!» — «Куда прешь? Не видишь — люди стоят!» — «Да мне без очереди, я по блату!» — и ржут, жеребцы. Прямо какой-то массированный налет, буквально! Попробовали бы вот сами — без перекуров, во-первых, да с одной задницей на три ярмарки, бляха-муха! Уж под утро не петришь ни бельмеса, не помнишь, не чувствуешь, — застынешь вся, задеревенеешь, как труба какая-нибудь водопроводная, а оно все течет, течет и течет…