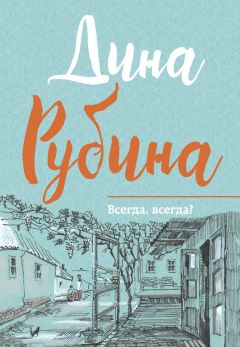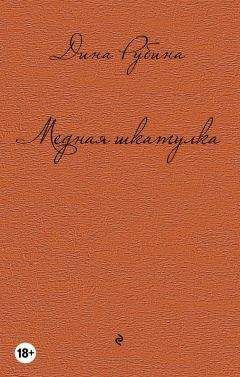Дина Рубина - Любка
– На, читай, близорукая, – предложила она многообещающим голосом. Кондакова подхватила кастрюлю и унеслась в свою комнату, где скрывалась до вечера.
А Любка облачилась в мятое клетчатое платье, сшитое когда-то лучшей ташкентской портнихой для выпускного бала, и долго возилась у печки, не без удовольствия ворочая кочергой в огне топки пожившую зеленую кофту.
– И вот что, доктор… – ласково щурясь в танцующих бликах огня, проговорила Любка. – Вы моих денег мне не давайте… Складывайте где-нибудь… чтоб я места не знала…
Она сразу взвалила на себя всю работу по дому. Скребла, стирала, кипятила, варила, возилась с малышкой – самозабвенно. В народе про такое говорят – пластается. Ирина Михайловна переживала, пыталась придержать ее – куда там! Просто когда Ирина Михайловна возвращалась из санчасти, дом оказывался прибранным, обед приготовлен и укрыт старым маминым платком, ребенок накормлен и угомонен. Всего за два-три дня жизнь Ирины Михайловны задышала теплым ухоженным бытом, словно мама вернулась, и от этого по вечерам тоненько скулило сердце.
Недели через две, прихватив Любкин паспорт, она пошла в отделение милиции – прописывать домработницу.
Майор Степан Семеныч как в паспорт глянул, так откинулся в кресле и даже не сразу говорить начал, только тряс перед Ириной Михайловной раскрытым Любкиным паспортом.
– Ирина Михайловна! Что вы делаете?! – наконец крикнул майор. – Она же главарь банды, эта Любка, недавно срок отбыла!
И бросил паспорт на стол.
– А если она вас обворует?!
Ирина Михайловна села, посмотрела на майора, повертела в руках Любкин вполне обычный на вид паспорт, подумала о маме… Сильный человек мама всегда говорила: «К черту условности!» Девчоночьим жестом оправив юбку на коленях, Ирина Михайловна деликатно, пальчиком подвинула Любкин паспорт к майору и сказала виновато:
– Ну, обворует – я к вам приду…
Пока шла домой, мучительно размышляла, как себя с Любкой держать. Сказать бодро: все в порядке, Люба, я вам доверяю? Фу, пошлость! Главное, не выдать, до чего боязно засыпать в одной комнате с главарем банды.
В коридоре Ирина Михайловна разделась, на цыпочках прокралась к своей двери и приоткрыла ее. В комнате пели, тихо, заунывно. Любка сидела в темноте, спиною к двери, и мерно колыхала коляску. Узкий луч света из коридора полоснул ее меж лопаток и упал к ногам. Коляска кряхтела, потрескивала – кузов ее сплел из ивовых прутьев пленный японец Такэтори, которого Ирина Михайловна выходила после перитонита. Коляска поскрипывала, и Любка влажным горловым звуком тянула странную колыбельную, приноравливая ее ритм к этому шороху и скрипу:Чужой дя-а-дька обеща-ал
Моей ма-а-ме матерья-ал,
Он обма-а-нет мать твою-у,
Баю-ба-а-юшки баю-у.
Ирина Михайловна прикрыла дверь и почему-то все на цыпочках пошла на кухню. Там за своим столом сидела Кондакова и понуро тянула чай из пиалы вприкуску с желтым узбекским сахаром.
– Совсем меня с кухни потеснила! – пожаловалась она Ирине Михайловне, длинным шумным хлебком втягивая чай. – Целый день жарит-парит, ресторанное меню готовит… Грубая. Бандитка!
Ирина Михайловна устало подумала, что Кондакова, пожалуй, никогда еще не была так близка к истине. Раскутала кастрюлю, сняла крышку и – замерла, блаженно вдыхая аромат горячего горохового супа.
Словом не обмолвились – ни та ни другая. Будто Любкина биография началась в кабинете медкомиссии. Хотя на человека, скрывающего свое прошлое, Любка похожа не была.
– Вы, Ринмихална, денег в шкафу, в белье, не держите, – посоветовала однажды. – Нельзя так простодушно жить.
Ирина Михайловна растерялась, вспыхнула, возмутилась: неужели Любка в шкафу рылась?
– Я не рылась, – добавила Любка, словно услышав ее мысли. – Заметила, когда вы Кондаковой одалживали… А шкаф, да еще в белье, – первое для домушника место. С него начинают.
– Да какие у меня деньги, Люба!
– Тем более, – возразила та строго.Незаметно выяснилось, что в жизни Любка разбирается лучше Ирины Михайловны и уж гораздо толковее обращается с деньгами: знает, на что и когда потратить, а когда и придержать. Само собой получилось, что на рынок выгодней посылать Любку.
Как-то прибежала, запыхавшись, бросила в коридоре кошелку с картошкой.
– Ринмихална! Гоните-ка восемьдесят рублей! Там старушка два стула продает! Сдохнуть можно! Графские! Ножки гнутые, лакированные! Я час торговалась.
– Люба, у нас же до зарплаты всего сотня осталась…
– Не жмитесь, выкрутимся!
…А стулья и вправду оказались чудом из прошлой, дореволюционной еще, жизни – с нежной шелковой обивкой: по лиловому полю кремовые цветочки завиваются – осколок какого-нибудь гамбсовского гарнитура, неведомо какою судьбой занесенный в захолустье азиатского городка. Стулья стояли теперь по обе стороны круглого стола с обшарпанными слоновьими ногами, девственно лиловели обивкой и напоминали двух юных фрейлин, случайно оказавшихся на постоялом дворе.
За вечер Любка сшила на них чехлы, протирала каждый день особой тряпкой изящные гнутые ножки и называла стулья не иначе как «мебель» («Какая мебель! – с нежностью. – Даром, даром!…»).
Аванс и получку Ирина Михайловна отдавала теперь Любке с огромным облегчением, как раньше – маме. Не надо было рассчитывать и раскладывать по полочкам, а потом, как бывало, тянуть последнюю тридцатку. Рассчитывала теперь Любка. И увлеченно – присядет на краешек стула, разбросает перед собою веером на столе небогатую получку Ирины Михайловны и, сосредоточенно шепча, долго передвигает туда-сюда бумажки, словно пасьянс раскладывает. И упаси боже отвлечь ее каким-нибудь невинным вопросом – например, зачем на примусе весь вечер суп кипит? – она еще и огрызнется:
– Да Ринмихална! Не дергайте меня, Христа ради, я ж считаю! Кипит – пусть кипит, авось не сдохнет!
И обязательно еще выгадает, спрячет десятку-другую в толстенный том «Гинекология и акушерство», а в конце месяца торжественно выложит перед Ириной Михайловной: занавески покупаем.
– Люба, может, лучше боты?
– Боты в другой раз. Сейчас занавески. Живем, как голые – у всех на виду…
Однажды под вечер ушла в магазин и часа три пропадала. Обеспокоенная Ирина Михайловна с Сонечкой на руках вышла на крыльцо и стояла там, вглядываясь в конец переулка. Наконец из топких сумерек на углу возникла Любка, легкая, веселая, чем-то страшно довольная. В каждой руке – по узбекской, с загнутыми острыми носами галоше.
– Люба!…
– Во! Пара – двугривенный! – вплывая из темени на крыльцо, Любка сунула к лицу Ирины Михайловны глянцем отливающую галошу.
– Что это? Зачем?