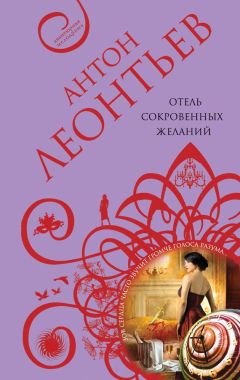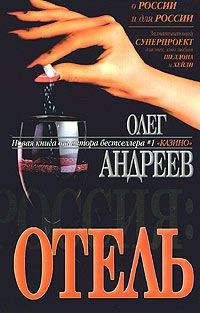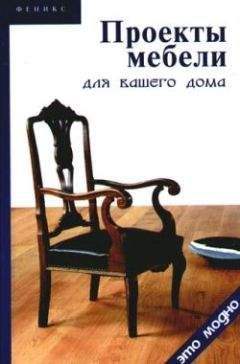Туве Янссон - Домашние животные и фру
Нам не следовало бы разрешать уборщице входить в мастерскую, и мы никогда больше этого не делали. Однажды она взяла горсть ветоши и чисто-начисто протерла стекло ящика, где сидел крысенок, а потом сунула ветошь в ящик. Крысенку не понравилось, что стекло стало чистым, и он никогда больше не высовывал мордочку. Но ветошь ему понравилась, и он сделал себе в ней гнездо, какого никто еще никогда не видывал.
Папа расстроился. Одно время он вместо свидания с крысенком бросал салаку сизым чайкам через окно спальной, но это не было так уж мило и приятно, а после Пеллюры это ведь никогда уже не могло стать таким же дружеским занятием. К тому же к нам явился полицейский и стал ругаться. Мы так никогда и не поняли почему.
У папы всю жизнь были хлопоты с домашними животными. Взять хотя бы Пюре, который сдох от пищевого отравления. Бабушка — папина мама — нашла его в мусорном баке во время войны 1939 г. (Зимняя война 1939 г.). Хвостик у него был оторван, он страдал от чесотки и выглядел ужасно. Он был такой маленький и страшненький, что все, кто только видел его, бывали растроганы и как можно скорее хотели избавиться от него.
Папа и мама постоянно рассказывают истории о Пюре, иногда помногу раз, притом одним и тем же людям. Иной раз они говорят, что Пюре накормили гуляшом, а иной раз — что его вообще ничем не накормили. Я никогда не рассказываю одну и ту же историю одному и тому же человеку.
Все собаки, без исключения, — самые преданные. Они очень напоминают мужей, кроме разве что мопсов. Держать мопсов — в этом есть что-то безумное.
Если фру держит мопса, знаешь наверняка, что она — старая дева. Такое случалось, в особенности когда папа был молод! Но не лучший способ — выйти замуж и, предав, бросить своего мопса. « Многие прошли этот путь и попали из огня да в полымя», — говорит папа.
Даже если ты держишь мопса, надо хранить верность. Но это ужасно тяжело!
Вообще, это тяжело и для меня тоже. Я не очень-то думаю о всех этих фру, потому что из-за них, если ты — скульптор, только впадешь в отчаяние! Но зато я все время думаю о папиных домашних животных. Их было столько, что всех и не припомнишь, но с ними всегда одно несчастье, все равно, лохматые они или нет. Я так устаю от одних только мыслей о них!
Попполино теперь раз и навсегда папин друг, точь-в-точь, как и Кавен. Это так, и тут уж ни маме, ни мне ничего не поделать! Попполино проживет сотню лет.
Ну, а все остальные!? Например, овца. Она является на веранду, не вытерев ножек, и топает, и толкается, и получает все, чего только захочет. Затем она снова топает, уже выходя, со своими одеревенелыми ножками и своим примитивным блеяньем и грязным задом, которым вихляет, спускаясь с крыльца веранды и не имея ни малейшего представления о всей той любви, что выпала ей на долю.
Кошки! Они тоже ничего не понимали. Они — просто жирные пудинги, которые только и делали, что спали или же были красивыми и дикими и чихали на папу!
А бельчонок! Папе никогда не удавалось его погладить. Он был кусачий, проворный и самостоятельный. Ему хотелось только иметь, иметь и иметь, а потом ускакать восвояси, и чтобы его, такого красивого, оставили в покое наедине с самим собой.
Но я утверждаю, что хуже всех была ворона. Эх, до чего же умна была эта ворона! Она знала все о папе, и ей хотелось, чтобы ее гладили. Она была куда опаснее Попполино! Попполино живет чувствами и не может отличить справедливость от несправедливости.
Ворона же разницу между ними знала! Она все продумывала и рассчитывала. Она смотрела на папу, а потом смотрела на меня. Видно было, что она раздумывала. Она явно размышляла. А потом каркала сиплым голосом, хотя и очень тихо, в тоне жалобной нежности и, повесив голову, подходила к папиным ногам. Она терлась о них, она казалась беспомощной и кроткой, так как знала, что папе это нравится.
Но когда она оставалась наедине со мной, она каркала, издавая свое «кар-кар» с тем внезапным и отчетливым бесстыдством, какое и подобает вороне, каковой она и являлась. Мы непримиримо смотрели друг на друга, и я знала, что у нее — блохи!
Папа не видел их, так как не хотел видеть. Он позволял ей каркать и горланить на ее льстивый и вкрадчивый лад и говорил:
— Ну, послушай-ка, тебе известно, что сейчас три часа утра? Думаешь, у меня есть для тебя что-нибудь? Ты в самом деле считаешь, у меня есть время заботиться обо всяких воронах?
«Есть, есть, есть, — думала я, лежа в кровати, кусая простыню и ненавидя ворону, — конечно, у тебя есть время, и ты придумал для нее еду ещё вчера вечером»!
А папа поднимался и спрашивал:
Что если мы все-таки пойдем и посмотрим, что у нас есть?
— Кар-кар-кар, — отвечала она так мягко и кротко, как только может отвечать фальшивая и лживая ворона. Потом они выходили из комнаты и шли искать какую-нибудь еду!
Однажды ворона сидела на решетчатом настиле перед крыльцом и чистила перья:
— Кар-кар! — поманил ее папа с веранды, но ворона продолжала свое занятие.
— Ты что, не слышишь, он тебя зовет, — сказала я и толкнула ворону.
Ее ножка попала в отверстие решетчатого настила и сломалась. Вороньи ножки — тоненькие. Никто не знает, какими тонкими могут быть вороньи ножки. Она стала бить крыльями и закричала. И теперь она кричала естественно, а не для того, чтобы произвести впечатление на папу.
А потом она сдохла, и ее похоронили. Папа не сказал ни слова. Я пряталась за погребом и придумывала стишок на смерть вороны.
«Ах, маленькая ворона, как краток был твой жизненный путь, все битвы и брани мира, его покинув, забудь! В грудь твою нанесен смертельный удар, земная судьба твоя решена, на тебя жребий пал! Может, ты сидишь на далекой звезде, ты белая, как лебедь, да, этого я и желаю тебе! Вот солнце садится пурпурно-золотое, лучи его озаряют гагачий холм, где встречаются наконец ласточка, певчий дрозд; орел и зяблик, но только не ворона. Она покоится в могиле, она больше не каркает, не кричит, а месяц так тихо на все это с небес взирает и чуточку ворчит»!
Я слышала довольно отчетливо, как папа сказал маме, что это стихи одаренного человечка. Может, стихотворение помогло ему меньше горевать. Может, оно помогает и мне. Иначе дух вороны будет преследовать меня до самой смерти. Но нечего обращать на это внимание, я все равно победила!
А вообще-то мух папа не любит! Такая ли уж большая разница между воронами и мухами? И те, и другие летают! И те, и другие черно-серые. И у тех и у других появляются детеныши. У мух — очень наглядно!
Они сидят друг на друге, жужжат, точь-в-точь как канарейки, и производят много-много мушек, причем все время новых и новых. Но папа мух не любит и хочет их только истреблять. Он ловит их в сачок, а когда тот полон и в нем примерно шесть миллионов невинных мух, которые ползают вокруг жужжа, он завязывает сачок и всех одновременно топит в кипящей воде! Как он может?
Я иду три километра до самого городка, прежде чем выпускаю мух. А не то их утопят в кипящей воде. Мне интересно, любят ли в этом городе мух? Никто, кроме меня, не жалеет их и не хочет помочь мне их спасти. Я спросила об этом Аллана, который случайно жил летом с нашей семьей на даче.
— Не будь дурой, — ответил он. — Ты знаешь, что меня интересуют только дохлые животные. Я их хороню.
— Ну, а мухи, которые дохлые? — спросила я. — Ты каждую кладешь в отдельную могилку или всех в одну и ту же?
Но он только таращил на меня глаза и снова повторил:
— Ты дура!
У Аллана пять кладбищ со множеством крестов, он целыми днями собирает трупики животных и всем жутко надоел. Единственная, кто помогает ему, кроме меня, это — Фанни. Она умеет находить дохлых животных и каждое утро складывает их рядком на крыльце — сначала ряд красивых камней, затем — ряд ракушек и наконец ряд трупиков.
Аллан не смеет научиться плавать и он не умеет играть. Скоро он уедет, и это тоже хорошо. Похороны время от времени могут быть интересны, но не всегда же…
Во всяком случае, я буду иногда по вечерам ходить на его кладбище и петь псалом или читать мой стишок на смерть вороны, потому что, как говорит папа, необходимо придерживаться традиций.