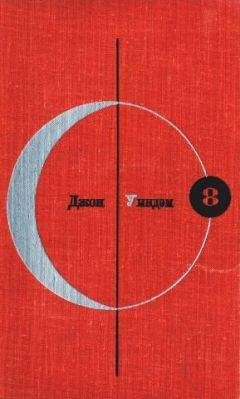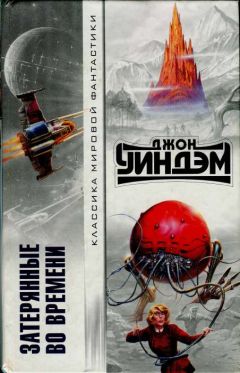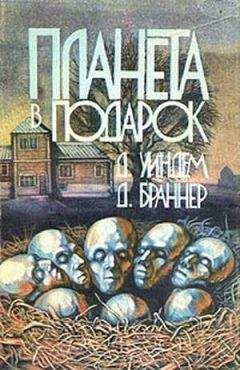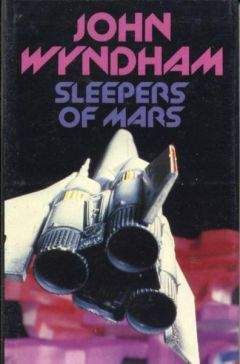Уиндэм Льюис - Броткотназ
Звук шагов, такой тихий, что его почти не было слышно, донесся с наружных ступеней. Тень упала на стену напротив двери. Легкой, изящной и быстрой походкой, на каждом шагу пружиня коленями с кокетливой упругостью и покачивая с мягкой учтивостью массивной головой, в кабачок вошел высокий, плотного сложения рыбак. Вскочив, я воскликнул:
«А! Вот и Николас! Как дела, старина?»
«Да это же месье Керор!» — раздалось низкое, ласковое гудение его голоса. «Как вы? Неплохо, надеюсь?»
Он говорил низким голосом, неторопливо. Улыбка не сходила с его лица. Одет он был на бретонский манер.
«Это вы только что были в лодке — там, под утесом?» — спросил я.
«Ну да, месье Керор, должно быть, мы. А вы нас видели?» — улыбаясь, спросил он с интересом.
Я заметил его детское удовольствие от вида самого себя, там, в собственной лодке, у меня на глазах. Словно бы я сказал ему «Ага! Я вас вижу!», и мы очутились на тех же самых местах, что и тогда. Он секунду поразмыслил.
«Я вас не видел. Вы были на утесе? Вы, должно быть, только что пришли из Лоперека?»
Его инстинкт велел ему уяснить мое присутствие здесь и на утесе. Это не было любопытством. Он желал верного отображения причины и следствия. Он напрягал мозг, пытаясь вспомнить, видел ли он фигуру, идущую по тропе сверху утеса.
«Вышли прогуляться?» — прибавил он.
Он сел на край стула: симметричная уместность здорового и мощного костяка, равновесие сидящей фигуры непринужденного мужчины, принадлежащего к европейскому типу, как на фресках эпохи Кватроченто. Они с Жюли не смотрели друг на друга.
«Налейте-ка месье Броткотназу!» — сказал я.
Броткотназ жестом ограничил ее, когда она стала ему наливать, и продолжал рассеянно улыбаться, сидя за столом.
Размер его глаз и маслянистая их смазка — кремом улыбки или же неким лучезарным желе, — еще более, казалось бы, их увеличивающая, просто поразительны. У него большие ласково-насмешливые глаза, выражающие кокетство и довольство животных жиров. Стороны его массивного лба часто краснеют, как это происходит у большинства мужчин лишь в моменты замешательства. Броткотназ же в замешательстве всегда. Но его гиперемия, думается мне, вызвана постоянным притоком крови к окрестностям глаз и как-то связана с их магнетическим механизмом. Давление, порождаемое этой эстетической концентрацией в окружающих сосудах, возможно, служит тому объяснением. То, что мы называем болезненной улыбкой, когда рот слегка растянут вдоль десен и выдает небольшое болезненное сокращение — застывшая страдальческая усмешка робкого человека — редко покидает его лицо.
Поступь этого робкого гиганта мягче, чем у монашки, — описанная мной упругая пружинистость колен при каждом шаге — несомненно, результат его любви к танцам, в которых он был столь быстр, искусен и изобретателен в молодости. Когда я остановился у них первый раз, годом раньше, какой-то мужчина однажды играл на дудке на утесе, во впадину которого встроен их дом. Броткотназ услышал музыку и забарабанил пальцами по столу. Потом легко вскочил и в своей черной облегающей одежде сплясал изощренный хорнпайп[9] прямо посреди кабачка. Его покрасневшая голова была уравновешена в воздухе, лицо обращено вниз, руки попеременно вздымались над головой, а он меж тем следил за своими ногами, как привередливый кот, легко и быстро ставя их с церемониальной мягкостью то туда, то сюда и затем отдергивая прочь.
«Вы любите танцевать», — сказал я.
Его большие ласковые невозмутимые голубые глаза, насыщенные колдовством тайных соков, все так же улыбались: он тихо мне поведал:
«Je suis maоtre danseur. C'est mon plaisir![10]»
Гудящая и протяжная бретонская речь, с таким же сильным «з», как и в сомерсетском наречии, придала особую выразительность фразе C'est mon plaisir! Он хлопнул по столу и посмотрел мне в лицо со всем добродушием своей усмешки.
«Я знаток всех бретонских танцев», — сказал он.
«Обады, гавота…?»
«Ну да, бретонского гавота». — Он безмятежно мне улыбался. Это была вспышка невинного счастья.
Глядя на него, я увидел благородную ловкость его черной фавновской фигуры: как он, должно быть, устремляется в танцующую толпу на празднике Прощения, подскакивая в воздух и приплясывая с гротескной элегантностью под бинью[11], а люди тем временем стекаются на него посмотреть. Потом, взявшись за руки и не расставаясь со своими черными зонтами, они разобьются на цепочки и будут подпрыгивать в танце, сводящемся к быстрым движениям ступней. А он, все так же подобный черному фонтану движения с верхом в виде плоской черной бретонской шляпы, завязанной под подбородком, продолжит свое отдельное представление. — Его спокойная уверенность в мастерском владении этими танцами подразумевала именно такое положение, занимаемое им прежде в праздничной жизни этого языческого сельского края.
«А мадам любит танцевать?» — спросил я.
«Отчего же нет. Жюли это умеет».
Он поднялся и, со снисходительной галантностью протянув жене руку, воскликнул:
«Viens donc, Julie! Давай-ка. Станцуем вместе».
Жюли осталась сидеть, сквозь бордовую маску усмехаясь своему обворожительному мужу. Он продолжал настаивать, стоя над ней, вывернув носок в первом движении танца, учтиво вытянув руку.
«Viens donc, Julie! Dansons un peu![12]»
Посапывая и бросая по сторонам стыдливые и стесненные усмешки, оттого что позволила вовлечь себя в это действо, она встала. Они станцевали для меня подобие менуэта, вышагивая вперед и отступая назад, приседая и вставая в позы, быстро скользя ступнями по полу. Жюли исполнила свою партию, как мне показалось, с пониманием. С той же, ни капли не изменившейся улыбкой он сел на прежнее место напротив меня.
«Он и стихи сочиняет, для пения», — заметила Жюли.
«Песни на мотивы гавота, чтобы подпевать?.»
«Ну да. Спросите у него самого!»
Я спросил.
«Ну да», — сказал он. — «В прошлом я много стихов сочинил».
И с неизменной усмешкой он прогудел их нараспев сквозь почти сжатые зубы, чьи темно-желтые ряды, с клапанами которых он умело управлялся языком, походили на некий экзотический музыкальный инструмент.
Броткотназ — одновременно рыбак, dоbiteur, или же трактирщик, и «землепашец». Несмотря на эту тройную деятельность, он беден. Для постройки их нынешнего дома он растратил остатки состояния, бывшего на тот момент у Жюли — как однажды вечером поведал мне на утесе почтальон. Когда дом стоял уже готовый, под небольшой красной скалой, обтесанной, чтобы его вместить, в яркой побелке, с голой шиферной крышей и ступенями, ведущими к двери от крутого и неровного участка местности напротив нее, Броткотназ отметил завершение работ экспрессивным празднованием. Сейчас он владеет третью рыбацкой лодки и тем, что приносит ему кабачок, но этого очень мало.
Его приятели скажут вам, что он «charmant garоon, mais jaloux[13]». Они называют его «traоtre[14]». Он женат во второй раз. На этот счет слухи сообщают, что его первой жене жилось несладко. Если это правда и если следовать аналогии, то, возможно, он ее убил. Несмотря на это досье, бедняжка Жюли «его заполучила». Трижды он наследовал деньги, которые быстро тратил. Вот без прикрас его история и характер, которым его наделяют.
Наутро после побоев — когда серьезно поколоченная Жюли лежит на кровати или, тихо покачиваясь, сидит в кабачке, с тюрбаном из повязок на голове, он бесшумно выполняет ее пожелания, справляется о самочувствии и принимает нужные меры. Они — как хирург с пациентом сразу же после успешно выполненной операции. Он готов прошагать пятнадцать миль до ближайшего города и обратно, чтобы раздобыть необходимые лекарства. Он хранит серьезный вид и услужливо принимает выражения сочувствия супруге, если они будут высказаны. У него болезненная жена — такова идея: она страдает хроническим недугом. Обращается он к ней всякий раз с сострадательной мягкостью. Однако в поведении обоих есть нечто, выдающее их скованность. Они безропотны, но тем не менее помнят о кресте, который им приходится нести. Жюли нет-нет да и помянет ненароком горячность мужа. Как-то она рассказала мне, что после женитьбы они завели сойку. Птица знала, когда Броткотназ был пьян. Когда он возвращался домой с поминок или с праздника Прощения и садился за стол кабачка, сойка выскакивала из своего ящика, перебиралась через стол и клевала ему кисти рук или же с лета бросалась в лицо.
Тайна этого улыбающегося гиганта, бывшего, я полагаю, на год-два моложе своей жены, состояла, вероятно, в том, что он намеревался ее убить. У нее больше не было денег. При его репутации женобивца он мог бы сделать это без помех. Когда он отправлялся на «Прощение», она, со своей стороны, знала, что по возвращении он попытается ее прикончить. Такова, похоже, была ситуация. Если бы как-то ночью он все-таки это сделал, то искренне бы ее оплакивал. Во время fianоailles[15] со своей новой невестой он бы видел на стуле перед собой ее — Жюли, его Жюли, и, по-прежнему излучая терпимость и здоровье, пролил бы, улыбаясь, меланхоличную слезу.