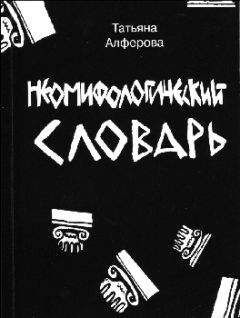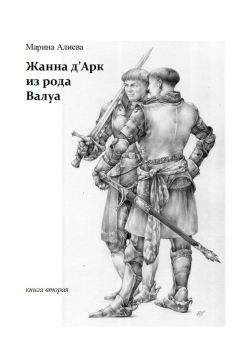Эргали Гер - О погоде за городом
— Она еще на крыльце, — шепотом сообщила старуха, досадуя на свою оплошность. — Думаете, услышала?
— Не знаю, Вера Яковлевна, — дипломатично отвечала Наталья.
— Будем считать, что нет, — решила Вера Яковлевна, потом хихикнула: — Она же глухая. Я прямо в лицо говорю, что меня ждут, а она не слышит…
Потихоньку они ушли вперед. Митя отстал и торопил Оленьку. Дождя как будто бы не было, только ветер порывами налетал на сосны, и тогда крупные капли дробным косым наметом пробегали по молодым дубкам, по бледной, вздрагивающей листве подлеска. Оленька, млея от восторга и страха, паслась в малиннике; за малиной пошла черника, вся, как в завивке, в жестких лакированных листочках, присыпанных порыжевшими сосновыми иглами, и все это росло просто так, под открытым небом, для всех и совершенно бесплатно.
Митя радовался, наблюдая за тем, как Оленька выпутывает из листвы чернику, потому что где-то читал, что работа пальцев способствует развитию речи ребенка. Он смотрел на Оленьку и удивлялся тому, что любит ее ничуть не меньше, чем год или два назад, хотя пора праздника, пора первых, самых неожиданных радостей и поразительных перемен в ребенке вроде прошла. В нынешней его любви было больше инстинкта, наработанного рефлекса, она больше походила на намертво вызубренный урок, но это отнюдь не обесценивало ее — она была глубже, выстраданнее, прочнее прежней восторженной любви, легко переходившей в усталость и раздражение. Эта азбука была ему внове; оглядываясь назад, он понимал, что мог бы быть более счастлив в жизни, окажись его первым, самым настойчивым и терпеливым учителем любви не Оленька, а мама, при жизни целиком поглощенная работой, или бабушка Вера Яковлевна, или еще кто-нибудь…
Между тем Наталья и Вера Яковлевна ушли далеко вперед, беседуя на разные нейтральные темы, не без труда изыскиваемые Натальей по ходу самой беседы. Тропинка вывела их к шоссе; в ожидании Мити с Оленькой они потоптались на обочине, затем, не дождавшись, пересекли дорогу и широким пойменным лугом, лежавшим в излучине между двумя пляжами, вышли к реке. Здесь, на виду заречного костела, утопавшего в густой и темной зелени другого берега, они сели на лавку, на которой Веря Яковлевна всегда отдыхала перед тем, как свернуть к павильону летней столовой; река, потемневшая и даже как будто съежившаяся от холода, текла в десяти шагах перед ними.
— Какая вы умница, Наташенька, и откуда вы все это знаете? — говорила старуха, разглядывая гибкий, трепещущий в руке росток чистотела. — Я ведь знала, что чистотел лекарственное растение, но никогда не подумала бы, что эта травка и есть чистотел. Ой, да он пачкается!
Она с удивлением уставилась на перепачканную желтым ладонь.
— Это сок, — с улыбкой пояснила Наталья. — Осторожней, Вера Яковлевна, он не смывается.
— А помните, вы показывали мне соловья? С тех пор я часто прихожу сюда специально, чтобы послушать соловьиное пение. Как они поют, Наташенька — это же чудо, настоящее земное чудо!
— Неужто они до сих пор поют, Вера Яковлевна? — слегка удивилась Наталья. — Помнится, когда мы слушали соловья, дело было в мае…
— По-моему, поют, — неуверенно отвечала старуха. — По-моему, это они… И знаете, Наташенька, ведь это благодаря вам я стала вслушиваться и всматриваться… Вы уж не удивляйтесь, но я всю жизнь, как прочла в детстве про поющего соловья у Андерсена, так и пребывала в уверенности, что они действительно поют. По-настоящему поют, как Белла Руденко, по крайней мере, как флейта, такой чистый певучий звук. И поначалу разочаровалась: это щелканье, которое я так часто слышала, — вот и все пение! И только вслушавшись — я стала слушать, Наташенька! — я почувствовала, какая в нем сила, какая страсть, какая это земная правда, Наташенька. И как мне недоставало этого раньше! Жизнь надо знать, иначе уходишь в сухое теоретизирование, отчуждение, а знание жизни начинается вот с этих маленьких, очень жизненных мелочей. Вы такая умница, Наташенька. Я просто любуюсь вами и многому, очень многому у вас учусь…
— Ну что вы, Вера Яковлевна, — отвечала Наталья. — Я практичная женщина, только и всего.
Старуха, кивнув, уставилась на нее в некотором замешательстве.
— По-моему, вы не правы, — пожевав губами, сказала она. — Хотя, конечно, это палка о двух концах. Недаром говорят: «жизнь заела». Зиночку вот она заела, а меня нет. — Вера Яковлевна рассмеялась и немедленно зашлась надсадным грудным кашлем: пришлось доставать платочек. — Нас так упорно пугали идеализмом, Наташенька, так настойчиво вдалбливали, что в белых перчатках социализма не построить, что в поколении нашем, увы, остались одни прагматики. А ведь во времена, когда все начиналось, все мы были в той или иной мере идеалистами. И Зиночка, представьте себе, тоже… Пока на моем примере не убедилась, что это смертельно опасно. Вот так.
Потом женщины сидели молча, думая о своем. Лавка, как в пещере, стояла под сенью холодной, взъерошенной, многоствольной сирени, и в пещере этой изумительно пахло свежестью, сырой зеленью, подгнивающим речным берегом. Мимо скользила река, скольжение ее бесконечного мускулистого тела вызывало у Веры Яковлевну тошноту и головокружение. Она посидела с закрытыми глазами, потом коснулась колена Натальи своими негнущимися, изуродованными старостью пальцами и сказала:
— А знаете, Наташенька, мне стало гораздо веселее жить, когда появились вы с Оленькой. И даже сегодня, в такой, знаете, день, могу вам сказать, что жизнь — удивительная штука. Можно так сказать про жизнь — штука?
— Можно, — растроганно и с облегчением отвечала Наталья. — Вам все можно, Вера Яковлевна.
Вечером, проводив семью внука до троллейбусной остановки, Вера Яковлевна возвращалась на дачу, про себя все еще улыбаясь Оленьке, которая скакала, что-то кричала и махала ей ручкой за окном отъезжающего троллейбуса. Предстояло пройти четыреста метров лесом, и постепенно лицо Веры Яковлевны приняло обычное, задумчивое, с виду даже угрюмое выражение. Она все еще находилась под впечатлением предобеденного разговора с Натальей; редко она говорила так много и так легко, однако и на сей раз сокровенное, самое главное, о чем хотелось сказать, не высказалось. Уже не в первый раз, любуясь с заветной лавочки видом на костел и паромную переправу перед костелом, ей хотелось рассказать спутнице о маевке 192… года, проводившейся неподалеку от этих мест, чуть выше по реке, и даже не о самой маевке, одной из первых в тогдашней, буржуазной Литве, сколько о Зиночке тех лет, Зиночке, какой ее любила Вера Яковлевна и какой помнила. За последние годы память Веры Яковлевны ожила, что-то стронулось с места, вовлекая ее в необратимый, сладостный, порой мучительный процесс — обвал запахов, звука, цвета, — временами казалось, что реальную свою жизнь она прожила в черно-белом варианте, что воспоминания живей и насыщеннее подлинных событий и что теперь-то она могла бы остановить их бег, извлечь из волшебного, непроницаемого для других мешка памяти, рассказать… Как они с Зиночкой нанимали на городской пристани лодки для пикника, как весело, с достоинством и непринужденно отвечала сестра на незамысловатые шутки лодочников — сама Вера Яковлевна так и не выучилась этому искусству; как два плосколицых мальчика — посыльные от магазина Блюма — принесли прямо на пристань гору коробок и свертков с припасами, и Зина, сверх положенных чаевых, вручила каждому по бутылке ситро и горсти конфет; как с песнями плыли вверх по реке и какая неведомая, чужая страна открылась по берегам реки сразу за городом. Вспоминались бурые, запекшиеся на солнце лица крестьян, провожавших лодки долгими застывшими взглядами; Вере Яковлевне, как раз в то время штудировавшей историю Французской революции, окрестные хуторяне казались загадочней и древнее вандейских крестьян времен Конвента. Поглядывая на костел за рекой, почти съеденный окружающей его зеленью, она с удивлением вспоминала, какой громадной, неприступной твердыней казался он в те незапамятные времена, как притихли в своих лодчонках молодые кожевенники, пивовары, курсистки, когда выплыл из-за поворота этот сияющий золотом и белизной замок, к которому по обоим берегам брели паломники с обувкой через плечо или на палках — крестьяне, крестьянки в черных суконных юбках, повязанные белыми платочками, в нарядных блузках, а на пристани у паромной переправы сидели калеки — господи, сколько в те годы всюду было калек! — и пахло от пристани пылью, конскими яблоками и рекой, совсем как в городе…
Но ничего, ничего не удавалось извлечь из этого волшебного мешка наружу. Ни-че-го.
Вечер был темный, августовский, с ветром и запахами дождя. Лес, продуваемый насквозь, вздыхал и летел куда-то в ночь; устав ковылять по склизкой тропке, Вера Яковлевна остановилась. Все качалось и плыло перед глазами, у ближнего поворота метался на ветру шелестящий, обсыпанный крупными белыми ягодами куст неизвестного Вере Яковлевне растения; все вздыхало, шелестело, трещало, источало холодные свежие запахи, и старуха с каким-то отстраненным и тоскливым чувством смотрела на это разбойное ночное пиршество. Она не чуяла под собой ног, в теле была неприятная тошнотворная невесомость — казалось, сырой ночной ветер вот-вот подскочит, дохнет и понесет ее иссохшее тельце над лесом и над полями, унося от людей все дальше и выше, все дальше, выше и выше… Задыхаясь, она прислонилась к толстому сосновому стволу, пережидая головокружение и прилегая к сосне, как к надежнейшей земной вертикали.