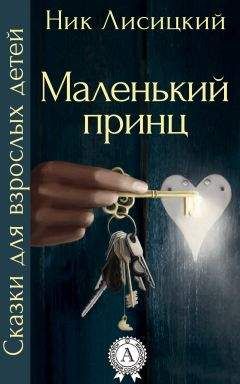Сержи Памиес - Рассказы
В моей памяти сохранилось странное воспоминание об этом чтении — словно в лихорадке, я пытался удержать в голове огромное количество новых сведений, и одновременно меня раздирали противоречия: личность автора вызывала у меня живой интерес, но предубеждение к его творчеству не исчезало. Я понял, что Сент-Экзюпери искал детской неискушенности, которой сам с годами лишился, и оказался достаточно храбрым (или безрассудным — он рисковал стать всеобщим посмешищем), чтобы из мрака своего существования написать — по мнению исследователей — поэтическую притчу, которая, казалось, излучала свет. Замысел книги родился в тысяча девятьсот сорок втором году во время обеда в кафе «Арнольд». Издатели Сент-Экзюпери, сытые по горло тем, что их автора постоянно раздирали психологические противоречия, предложили ему написать рождественскую сказку. Таким образом, они пытались заставить писателя забыть о своей судьбе изгнанника, бежавшего из коллаборационистской Франции и нашедшего приют в Соединенных Штатах, и рассеять его убежденность в том, что жестокость рода человеческого неисправима.
В тот день за обедом издателям удалось увлечь его своей идеей, которая была призвана стать противовесом естественным наклонностям этого человека — нетерпеливого, эмоционально неустойчивого и не умевшего держать в узде свою сексуальность. Ему ничего не стоило обзвонить всех своих любовниц и всех своих друзей в самое неподходящее время, чтобы прочитать им какой-нибудь абзац своего нового произведения или рассказать об очередной сердечной драме. Иногда он приглашал их в свою квартиру — с видом на Центральный парк, — чтобы разглагольствовать перед ними об энергии города и ночи или чтобы пить без меры, учиться делать фокусы или складывать из бумаги вертолетики.
Все, что мне удалось прочитать о Сент-Экзюпери — даже его исполненное отчаяния возвращение в армию и его последний полет, закончившийся исчезновением писателя, и фраза из повестки, выписанной дежурным офицером, звучавшая, как эпитафия: Pilot did not return and is presumed lost [4], — заставляло меня сделать один и тот же вывод. Мне было уже сорок девять лет, и, поговорив с близняшками, я обещал им, что в день своего пятидесятилетнего юбилея отправлюсь в какую-нибудь гостиницу и прочитаю «Маленького принца» от корки до корки (девочки к этому времени уже исполнили свой долг: обе прочитали книгу с восторгом, которому я — по причине своего малодушия — не сумел порадоваться). Наконец, знаменательный день наступил. Ночь, проведенная в гостинице своего родного города, вызывает в душе странные чувства. А пятьдесят лет — достаточно знаменательная дата, и близкие тебе люди бывают достаточно снисходительны, каким бы способом ты ее ни отмечал. Оставив в стороне предубеждения невежества и смирив гордыню, я медленно продвигался, ощущая под ногами сыпучий песок дюн (и слов), преодолевая старые и новые преграды, скользя по этой детской сказке, исполненной символизма. Иногда я подчеркивал какую-нибудь фразу, как например: «Самого главного глазами не увидишь» — наиболее известную и неоднократно использованную авторами книг по саморазвитию.
Когда я закрыл книгу, меня охватило желание писать, хотя я, исходя из личного опыта, с большим недоверием отношусь к подобным порывам, а также к сопровождающему их ощущению своей исключительности. У меня не возникло никакого особенного чувства, когда я дочитал историю до конца: для меня ничего не изменилось. В этот особый день, без торта и без свечек, я вспомнил о мальчике в поэтико-космической пижаме и спросил себя, как сложилась его жизнь. Потом я принялся писать и провел за этим занятием почти всю ночь. Из-за двери до меня доносились звуки, присущие жизни гостиницы: торопливые шаги, смех и стоны (а за ними, на втором плане, я ощущал энергию всего города). Если бы у меня были любовницы и вид на Центральный парк, я, наверное, обзвонил бы их, обуреваемый чувством собственной исключительности, чтобы прочитать мною написанное. Однако я предпочел дождаться рассвета, ощущая прикосновение чужих простынь и наслаждаясь то тем, то другим эпизодом книги (например, историей пьяницы, который пьет, чтобы забыть, что ему совестно пить).
Я отключил будильник, встал, принял душ — как же мне нравится напор воды в гостиничных душах! — расплатился и пошел домой пешком. Когда я открывал входную дверь своей квартиры, мне показалось, что я вернулся из долгих странствий. И путешествие это утвердило меня в убеждении, что игра воображения может быть одновременно восхитительной и обманчивой и что, на наше счастье, с книгами дело обстоит проще, чем с поездами, — здесь можно опоздать, а потом, некоторое время спустя, войти в тот же самый вагон (или уже не входить). Кроме того, я еще раз удостоверился, что — по крайней мере, на планете, где живу я, — самое главное прекрасно можно увидеть глазами. Да и что является самым главным? Притворство женщин, которые делают вид, что не замечают, когда на них смотрят; цвета такси; настойчивость юноши, разучивающего гаммы на контрабасе; правдоподобие лжи взрослых, когда они обманывают детей, и бутылки, летящие в контейнер для стекла, которые в этот миг уже ни наполовину пустые, ни наполовину полные.
Любимые песни Ленина
Когда приходишь в опустевшую квартиру родителей, чтобы в последний раз навести в ней порядок, перед тобой открывается мир, чуждый тебе и одновременно до боли знакомый. В самом начале этой операции возникает альтернатива: сохранять эти вещи или же ликвидировать. Если ты отъявленный консерватор, тебе остается лишь снять помещение для хранения этого скарба или же заполнить им свой дом, пожертвовав обликом собственного жилища. Если же ты сторонник радикальных решений, то в первый момент испытаешь ощущение легкости, освободившись от этого бремени. Однако очень скоро у тебя возникнет желание посмотреть старые фотографии в альбоме, вернуть назад сковородку, на которой тебе когда-то жарили самые лучшие в мире яичницы с картошкой, или послушать одну из пластинок с народными мелодиями Северной Кореи. И ты пожалеешь, что выбросил их: они казались тебе балластом, от которого следовало немедленно освободиться, а в действительности были якорем, удерживавшим тебя в бурном море. Каждый из детей возвращается к чему-то давно забытому и никак не хочет с этими воспоминаниями расстаться. Все внуки заявляют, что ничего выбрасывать нельзя, а кое-кто из родственников даже с неуместным пафосом провозглашает, что все вещи необходимо передать в музей. Пока длится спор, отмеченный отсутствием реализма и определенной долей непорядочности, ты успеваешь заметить жир на кухонном кафеле, торчащую из стены проводку на месте электрического счетчика, который сняли техники компании, россыпь канцелярских скрепок на полу и разноцветные разводы на потолке — застывшие свидетельства наводнений у соседа сверху. Если тебе не надо ни с кем спорить, ты можешь спокойно приняться за работу. У тебя будет достаточно времени, чтобы рассмотреть сокровища, о которых ты почти совсем забыл; ты сможешь аккуратно убрать фотографии сестры, чьего голоса ты никогда не слышал, как не слышал и упоминаний о ней. Ты впервые — с удивлением и волнением — увидишь ее на этих глянцевых прямоугольниках, таких же черно-белых, как форма монашек Красного Креста, которые заботились о ней до самого конца: вот она стоит в окружении деревьев Чехословакии[5] или судорожно сжимает пальцами какую-то веточку. Губы растянуты в бессознательной улыбке, на лице застыла гримаса — печать синдрома, известного в любом уголке земного шара, а взгляд устремлен куда-то вдаль, за низкие холмы на равнине. И несмотря на то что тебе будет приятно провести это свидание с прошлым в одиночестве, одновременно ты пожалеешь о том, что рядом нет близкого человека, с которым молено поделиться воспоминаниями, или брага или сестры — если они у тебя есть, — чтобы посмеяться вместе. Послушайся моего совета: если тебе когда-нибудь придется разбирать вещи в опустевшей квартире родителей, забудь о городских нормах сортировки мусора. Если ты примешься отделять стекло от рамочек и от картонных паспарту, обрамлявших все фотографии, которые сейчас превратились в семьдесят восемь гвоздиков с подвешенными на них прямоугольниками темной пыли, тебе грозит помешательство. Круглое отверстие контейнера для стекла слишком узкое и в него нельзя запихнуть слишком крупные предметы, а потому тебе придется разбивать стекла на мелкие кусочки, рискуя при этом пораниться или даже остаться без пальца, если ты не слишком ловок. Больше всего эмоций в таких случаях вызывает приговор, выносимый каждому предмету в отдельности: отправится ли он в контейнер для мусора или в коробку с вещами, заслужившими помилование, — ведь на самых важных корридах отличившихся особой храбростью быков не убивают. Тебе снова и снова приходится принимать решения и перед тобой возникают совершенно очевидные вопросы, над которыми ты никогда не задумывался. Что в этих стенах осталось тебе в наследство от родителей, всю жизнь снимавших квартиру? Можешь ли ты ощущать свои корни здесь, если ты был воспитан на убеждении, что частная собственность губительно действует на личность? И вдруг, неожиданно, у тебя возникает воспоминание из твоей собственной жизни и ты читаешь наизусть строчки Габриэля Арести[6], которые выучил, когда служил в армии, вместе с друзьями-басками, в те далекие годы, когда тебе начинало казаться, что, может быть, в будущем ты станешь писателем: «Я защищу / Дом своего отца. / От волков, / От засухи, / От ростовщиков, / От правосудия. / Я защищу / Дом своего отца. / Я потеряю скот, / Огороды, / Сосняки; / Я потеряю / Проценты, / Ренты, / Дивиденды, / Но я защищу дом своего отца» [7]. В осиротевшей квартире, однако, волки лишены метафорического величия. Вместо них на тебя набрасываются мухи, осатаневшие от духоты. Вместо хищников — сбережения ради сбережений, во имя неправильно понятой осторожности. И никаких дивидендов нет. Вместо скота, огородов и сосняков у тебя хватило духу защитить только тысячи книг — и среди них томик Арести — да кучи бумаг и документов. Сомнения, возникающие у тебя, когда надо принять решение о помиловании или обречь очередной предмет на исчезновение, связаны с прозой жизни и глубоко личными воспоминаниями, которыми ты всегда стыдился делиться с кем-нибудь. Градусник в форме ледоруба, привезенный когда-то из Крыма? Пощадим его. Мрачная литография Антони Тапиеса[8]? В помойку. Кольцо, сделанное из обломков американского бомбардировщика «Б-52», который был сбит во Вьетнаме? Помиловано. Пластинка «Любимые песни Ленина»? На свалку. Этой фазе работы предшествовал длительный процесс сортировки вещей. В коробки были упакованы письма, экстракты банковских счетов, удостоверения личности— как действительные, так и фальшивые, — и ворох прочих бумаг, которыми оформляется существование любой семьи, — и нашей тоже. На самом первом этапе все вещи, которые еще могли пригодиться кому-нибудь в хозяйстве, были оприходованы — а иногда и просто растащены — родственниками, друзьями, соседями и представителями некоммерческих организаций. Этой участи удостоились не только тарелки, кастрюли, столовые приборы, фартуки, халаты, пластмассовые лотки и покрывала, связанные крючком, но и брошюры времен первого или второго подполья (этот период всегда воспринимался как величина геологическая: плейстоцен, голоцен, подполье). Одежду уже отдали благотворительным обществам, которые ныне, благодаря семантической трансформации, превратились в центры солидарности.