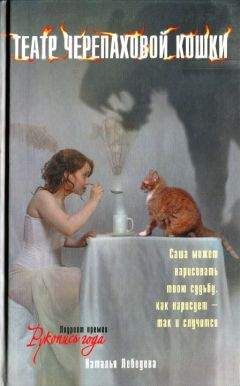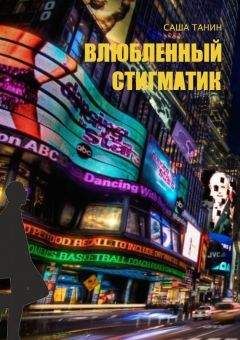Александр Попов - Смерть копейка
– Умру, умру. Предчувствую.
– Да будет! У тебя же пустяк, а не ранение.
– Гнию, – разве не видишь?
Мы помолчали. Я молчал потому, что уже не знал, как его утешить, увести от мрачных мыслей. Он вдруг заплакал.
– Жить я хочу… поймите вы все.
***
Миновало еще недели две или три. По кочкам в больничном парке побежали робкие ростки травы. Я часто стоял у окна с закрытыми глазами и грелся под блеклыми солнечными лучами. Такое было ощущение, словно что-то таяло у меня в груди, как воск, – вот-вот растечется по всем уголкам моего тела. Рафидж частенько спрашивал меня, как там на улице.
– Весна, – говорил я ему.
Он надавливал на горловую трубку, из которой вырывалась густая механическая, но радостная хриплая речь:
– Хорошо! Скорэ дом поеду.
Однажды я спросил:
– Как ты, дружище, будешь дальше жить? Чем займешься?
Я смутился: а вдруг Рафидж меня неправильно поймет? Но его глаз весело прищурился на меня, стянутые швами губы попытались улыбнуться, и он охотно мне рассказал, что из большой семьи, сам одиннадцатый или двенадцатый ребенок – точно не помню, что родственники ему "нэ-э-экак" не дадут пропасть.
– Я буду завэдывать магазына, – значительно сказал он и не без тщеславия посмотрел на меня: удивился ли я?
Действительно, я удивился и поинтересовался, почему он так уверен.
– Моя дядя – прэдсэдатель колхоз. Вся кишлак – мой родня. Всо будэт хорошо. Дэньги будут, вино, горы, солнцэ, всо будэт.
Однако на его лбу вздрогнула бороздка; он задумчиво помолчал и неприятно-резко сказал:
– А вот… нэ будэт.
Я не понял.
– Кого?
Он насупленно помолчал и гневно ответил:
– Жэнчин… баб… – И грязно выругался.
Я бранил себя, что сразу не смог догадаться, и отколупнул у парня коросту с самой болезненной раны.
Помню, Рафидж демонстративно отворачивался от медсестер и женщин-врачей или закрывал глаза, притворяясь спящим.
Раз он мне сказал:
– Я только тэпэрь понэмай, что такой жизн.
– Что же она такое?
– Она – всо, – значительно произнес он и поднял вверх палец. – А смэрть – тьфу, копэйка.
– Как это все?
Я никогда раньше особо не задумывался о том, что такое жизнь: живу да живу – и хорошо.
– Ну, как ти нэ понэмай? – даже рассердился Рафидж. – Всо – значит: нэбо, горы, воздух, мама, зэмля, нюхат цвэток, пить вино. Понимай: всо? И у мэня, как и у тэбя, скоро всо это будэт. Понэмай?
Я сказал, что понимаю, но так молод еще был тогда, никаких серьезных утрат и потрясений у меня не случилось, как у Рафиджа; тогда мне показалось несколько странным, что можно восхищаться такими обыденными явлениями, как воздух или земля.
Но через несколько дней произошло событие, после которого я каждой жилкой своей души понял смысл фразы Рафиджа, – я словно прозрел.
***
Помню, был вечер. Я мыл полы в палате Ивана. Он молча лежал и смотрел в потолок. Он часто так лежал, и мне бывало скучновато с ним, порой томительно неловко. Рафидж вел себя по-другому – порывался вертеться, шевелился, но раны немилосердно сдерживали его. Он водил своим большим черным, как у коня, глазом, словно старался больше, шире увидеть мир; по-моему, потолок ему был ненавистен – торчит перед глазом!
– Все! – неожиданно произнес Иван, собрав на лбу кожу. – Я уже не могу терпеть боли. Мне хочется… умереть.
Он закрыл глаза, из-под синевато-красного, припухшего века выскользнула слезка.
Я молчал и попросту не знал, как его утешить. Мне хотелось ему помочь, но чем, как? Сколько раз я призывал его терпеть! Но что слова здорового для страдающего в муках больного?
Меня временами начинали раздражать и сердить его разговоры о смерти. "Почему Рафидж об этом не говорит? – намеревался я круто спросить у Ивана. – Он терпит и верит. У него тоже ранение груди, тоже образуются нагноения да еще сто ран. А ты хнычешь, хнычешь. Надоел!" Но я молчал, потому что не смел в таком тоне говорить с ним. Он часто задыхался, зеленел, и к нему сбегались врачи; в состоянии полусознания надсаживался, что ему больно, больно и что его скверно лечат. Как-то раз, расплакавшись, потребовал, чтобы его умертвили.
В последние дни он стал часто вскрикивать, капризничать: то я не так "утку" ему подсунул, то неловко обтер мокрой тряпкой его полное вялое тело. Я отмалчивался, старался скорее все выполнить и уйти.
– Помоги мне умереть, Сергей, – поймал он мою руку, но был настолько слаб, что его горячая, жидковато-пухлая ладонь упала на кровать. – Прошу! Я не хочу жить. Я устал, устал!
Он снова заплакал, но даже плакать уже не мог, потому что боли в груди жестоко о себе напоминали, давили всхлипы, и он мог только лишь поскуливать и морщиться.
– Успокойся, Ваня, нужно перетерпеть.
Вдруг он громко вскрикнул, и его грудь стала биться в тяжелых конвульсивных вздохах. Замер и, осторожно дыша, негромко вымолвил:
– Жить… жить хочу.
Его лицо стало стремительно наливаться зеленовато-синей бледностью, и мне почудилось – щеки, губы, подбородок будто бы растекались и расширялись. Он весь обмякал, вдавливаясь в постель. Я испугался, выбежал в коридор и кликнул медсестру. Она только взглянула на него и во весь дух кинулась за врачами. Покамест их не было, я стоял возле Ивана. Я впервые видел, как из человека уходит жизнь, – тихо, даже как-то деликатно-тихо, словно не желая причинить боль умирающему, потревожить его. Он лежал, не шелохнувшись, стал каким-то затаенным, и мне пригрезилось, что синевато-бледные губы его обращались в кроткую улыбку. Полузакрытым глазом смотрел на меня, но в этом взгляде я уже не видел ни боли, ни страха, ни каприза, ни укора, лишь глубокий-глубокий покой. Я дотронулся до его руки – она оказалась прохладной.
В палату ворвалось человек пять. Они вкатили какой-то электрический аппарат. Меня подтолкнули к двери. Я медленно опустился на стул возле медсестринского столика. Через несколько минут из палаты вышли все пятеро врачей и молчком побрели по коридору. Рядом со мной присела медсестра, вынула из шкафчика клеенчатую табличку с вязочками и написала: "Баранов Иван Ефремович. Умер 14 марта…".
"Боже, – подумал я, – как буднично и просто!"
Начальник отделения велел мне и еще одному парню унести тело Ивана в мертвецкую. За руки, за ноги мы положили его на носилки, закрыли простыней и подняли.
– У-ух, тяжелый, – с хохотцой сказал мой напарник.
Я угрюмо промолчал.
Мы принесли Ивана к небольшому темному дому, стоявшему за госпиталем в саду у забора. Напарник отомкнул ржавый замок, отворил скрипучую, обитую потемневшим металлом дверь и включил свет. Мы увидели серую бетонную лестницу, уползавшую глубоко под землю. Там находилась единственная комнатка, пустая, сумрачная. Из предметов остался в памяти длинный, обшитый ярко-желтым пластиком стол; его солнечно-радостный колер смотрелся невыносимо нелепым. Садило плесенью.
Мы положили на стол тело. Стали сразу подыматься наверх. Выключили свет. Я оглянулся – как там Иван? Его не было видно – стоял густой мрак. Со скрипом, переходящим в стон, закрылась дверь и скрежетнул в замке ключ.
"Все! Буднично и просто".
Я побрел по саду. Напарник позвал меня в госпиталь, – я отмахнулся и брел, сам не зная куда и зачем. Я неожиданно представил – меня сейчас несли в носилках, обо мне сказали "у-ух, тяжелый", меня сгрузили на стол и оставили в холодной темной мертвецкой. У меня закружилось в голове, – присел на скамейку. Осмотрелся: землисто-серый, как вал, но с широкими щелями забор, голые кусты яблонь, серебристые лужицы, узкое облачное небо, на пригорке ютились двухэтажные дома, – совсем недавно все урюпкинское раздражало и сердило меня, а теперь гляделось таким привлекательным, нужным, милым. Вспомнил, что через два дня я должен вернуться в свой полк, в котором продолжится моя нелегкая служба, и я зло шепнул:
– Все выдержу, потому что я должен жить.
Вернулся в госпиталь, вошел к Рафиджу и – не увидел его в постели: он на одной ноге стоял возле окна. Весь в бинтах, без ноги, без руки, искромсанный, залатанный, однако – стоял.
Стоял.
Чуть повернулся ко мне, махнул головой на вечернее с огоньками окно, слабо-туго улыбнулся.
– Все будет хорошо, – сказал я.
Но в сердце натвердевалась и пекла горечь, которая не оставит меня до конца моих дней.