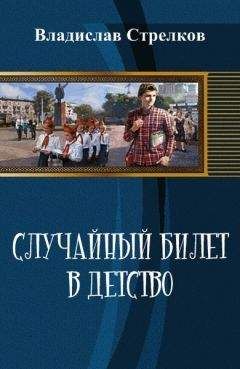Микаел Абаджянц - Свет и тени
В комнате всегда было тихо и покойно, и только тени от тополей в широком единственном окне час за часом бесшумно и незаметно скользили по деревянному полу, белым стенам, белому потолку. Зимой свет становился мертвенно-бледным и тени появлялись редко. И только к закату, да и то ненадолго, белый потолок окрашивался в бледное алое сияние. Зато весной, когда по стеклу часто барабанила звонкая капель, тени были быстрыми, прозрачными, меняющимися. К лету они делались степенными, тяжелыми и зеленовато-серыми. А осенью комната погружалась в отблеск умирающего золота, и в этом угасающем свете черное платье моей матери, сидевшей неподвижно у изголовья на низком стуле, казалось особенно красивым.
Ей было более не до меня. Время проходило скучно, невесело, теперь я ходил в школу и большую часть дня проводил за учебниками. Игрушки дарились в единственном числе и исключительно моему брату. Они бесконечной манящей вереницей проносились мимо моего носа, все в блестящих, красочных упаковках, и исчезали за дверью комнаты, вход в которую теперь мне был заказан. Меня совершенно не утешало то обстоятельство, что играть ими он не может. Мне хотелось закатить матери истерику, но почему-то я этого не делал. То ли понимал, что это ничего не изменит, то ли чувствовал, что за мертвой тишиной в комнатах следит чуткое заинтересованное ухо.
Господин в черном костюме и белой сорочке приходить к нам стал чаще и задерживаться дольше. Выражение лица его делалось все более надменным и жалостливым, отчего оно казалось более ученым. Присутствовать, когда он говорит, мне не позволялось. И, постояв у закрытой двери и немного послушав нудную, тягучую речь, изобиловавшую латынью, я отправлялся к своему давнему знакомому.
Он разжирел, стал старым и ленивым. Паутина на окошке сделалась заметной, пыльной, усеянной крылышками мотыльков и сухими мухами. Здесь тоже был хаос. Паук не вызывал у меня отвращения. В том, как он разделывался со своей жертвой, мне не виделось жестокости или кровожадности. В каждом движении его чувствовалось великое мастерство, данное ему природой. Убийство в исполнении паука выглядело всего лишь ремеслом. Умерщвление совершалось, но винить было некого, как если бы произошел несчастный случай. Несчастный случай с мухой. Это было даже забавно. И целью всех этих десятков несчастных случаев было прокормить вот этого жирного паука. Ну, впрочем, жирным он стал не сразу. А если я его раздавлю, то это, пожалуй, будет убийством. Убийством десятков мотыльков, комаров, мух, погибших единственно ради того, чтобы этот самый паук жил. Убийство этого паука сделает бессмысленной смерть всех этих мух, и все эти несчастные случаи уже не будут таковыми и лягут грехом мне на душу. Я представил, как из толстого брюшка брызжет кровь невинных моих жертв. А если его убить не из жестокости и не из кровожадности, а так, из отвращения, то его смерть, наверное, будет несчастным случаем. Ведь отвращение ко всему такому тоже должно быть у меня от природы. Но вдруг я обнаружил, что как раз отвращения-то у меня и нет. Мысли мои путались, софизмы мои мне порядком поднадоели, и как-то незаметно я начинал думать о другом. Мне вспоминался брат, синий от натуги, с протянутыми ко мне руками. Картина эта, несвежая, потускневшая от времени, рисовалась мне сквозь легкую зыбкую пелену, похожую на паутину. Я помнил, что чувствовал тогда. Ощущение мое было отнюдь не сентиментальным, но и далеким от кровожадности. Я вдруг понял, что оно сродни чувству, которое я испытывал, глядя на поедавшего свою жертву паука. Но если я буду просто смотреть, как он пожирает муху, то стану ее убийцей. Ведь природа паука такова, что прекратить есть ее он не может. Ее отпустить могу я. Но если я ее отпущу, то сдохнет с голоду паук. И мне начинало казаться, что я голодный паук, добровольно отпустивший свою жертву, — а мимо длинной чередой двигались заманчиво мерцавшие свертки. Но паук не может так просто отпустить кого-либо. Тогда мне казалось, что я муха, правда еще не пойманная. И мне вновь виделось, как сквозь паутину ко мне тянутся руки брата. Потом вдруг он замирал, переставал двигаться, затаивался.
Когда я проснулся, был уже глубокий вечер. Алое с золотом сияние проникло в комнаты. От громоздкой мебели тянулись тени, красно-черные, живые, переплетающиеся. За запертой дверью гостиной все еще слышался монотонный наставительный монолог. Мне стало ужасно тоскливо. Время шло, а причитавшейся мне толики тепла и ласки я не получал. Она была снесена на все тот же алтарь с блестящими никелированными спинками. Именно там лежало все то, что я так любил, чего мне так недоставало и было у меня отобрано. Я подошел к двери брата. Она была, как всегда, заперта. За ней было привычно тихо. Но тишина была напряженной и многозначительной. Я прижался к окрашенной белой масляной краской двери. Она была холодной. Я подумал, что все эти запертые двери были мне местью. Тени стали еще длиннее, сделались темно-багровыми. В распахнутое окно я видел неподвижные тополя. Они тоже отбрасывали багровые длинные тени, а сами казались черными. Солнце зависло над самым горизонтом. И теперь я прекрасно видел, что оно не диск, а шар. Я со страхом думал о том мгновении, когда солнце зайдет, когда свет погаснет и останется одна огромная, поглотившая все тень. И тогда не будет ни жертв, ни палачей. Все станут одинаково беспомощны и одиноки. Рука моя скользнула вниз по двери и задела что-то металлическое. Это был забытый в замке ключ. Сердце мое забилось учащенно и неровно.
В комнату я проник бесшумно, вслед за своей багровой тенью. Мгла между предметами смешалась в единую багровую черноту, и только поверх нее все еще оседал свет, тяжелый, с красным отливом. Я неслышно двигался к кровати с блестящими спинками, у которой были сложены нераспакованными игрушки. Я нагнулся, поднял один из пакетов. Тут ржавая сетка заскрипела. Воздух вздрогнул от нечеловеческого воя. С кровати что-то сползло и, шатаясь, двинулось ко мне. Вой постепенно стихал, точно глотке, его издающей, не хватало воздуха. Из темноты вынырнуло мое собственное лицо, все в багровых пятнах, губы странно кривились, по подбородку стекала красная блестящая пена. Я не слышал, что он говорит, но прекрасно понимал, что он требует положить сверток на место. Точно исполинский пузырь, что-то неведомое медленно поднималось из глубины моей души. Оно разорвалось, захлестнув меня отвращением. В то мгновение я не мог испытывать ничего, кроме глубокого отвращения к себе, к брату, ко всему, что когда-то любил и что он старался у меня отнять. Вдруг я осознал, что игрушки мне не нужны более. Я без сожаления отдал бы их всякому. Зажегся свет, яркий, электрический, отрезвляющий. Предметы втянули в себя тени. Мимо меня пронеслось темное платье матери, а на пороге застыл человек в черном костюме. Лицо его потеряло прежнюю ученость, и выражение его было жалким и туповато-изумленным.