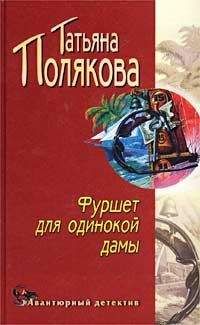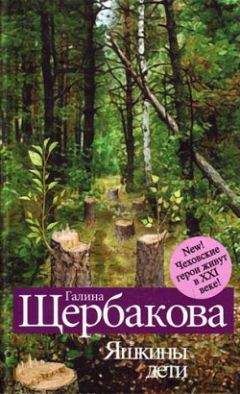Владимир Галкин - Парк культуры имени отдыха
— Ну вот — где мы с тобой чаще всего девок кадрили? В Парке Горького?
— Именно. Да почти все знакомства, что я помню, все там были.
— А как мы знакомились, как представлялись? Я — всё внук Чапаева, а ты ведь даже назвался как-то внучатым племянником Троцкого.
— Уй! — протрясся он, зажав рот рукой, такая манера у него, когда смущён, а смешно. — Что ты! И ведь верили, дурочки. Я ж типичный русак вологодский, нос пипкой, альбинос — а верили, что еврейчик. Да, народ тогда наивный был, не то, что нынешняя…
— Сволота, — подсказал я. — Нет, это не «публика», это сволота. И, по-моему, у тебя тогда хата была. Была? Ну да, мы ж к тебе и возили. В Сокольники, не ошибаюсь?
— Ага, Шестой Лучевой просек, деревянные домики. А в Парке, да, там и буфеты, и ресторан «Кавказ» дешёвый. А какая пивнуха «Пльзень»? До 11 вечера работала. Во, я вспомнил одну вещь, это и будет моя первая микроновелла, а назову я её — «КОТ С САПОГАМИ».
Как-то летом тёрся я у лодочной станции на Голицынских прудах. Смотрю, стоит одна ничего себе, ко мне спиной. Зад — шесть кулаков, ноги — стройней не бывает, платье крепдешиновое этак их овевает, а я воображаю, что там выше, где они сходятся… У-у-у! И локоны у ней по плечам белокурые — всё моё. Я так подкрался и выставил параллельно с её мордочкой свою харю, как Ленин с Марксом.
— Вот так, лапочка, — говорю, — они и смотрят отовсюду, наши учителя марксизьма-ленинизьма, правда? (Тогда, в 61-ом, Хрущёв второй раз покатил на Сталина, народ много болтать начал, анекдоты про Ленина пошли.) Она на меня глянула, улыбнулась. Да-а, мордашка-то у неё оказалась не того… Попался я, а отступать не хочется, формы прельщают. Представь: лицо длинное, подбородка почти нет, нос до нижней губы, глазки маленькие, но — сте-ервущие! В возрасте, меня годков на десять старше, опытная, ловит, знать, «рыбку».
— Не искупаться ли нам? — дурачусь. — Вон к тем лебедям сплаваем, а? Правда, не пруд, а борщ, но вечер-то жаркий. А может, лодочку возьмём? Вы свободны? Я свободен. Смотрите-ка…
Отпахнул я лацкан своего пиджака-букле до колен, а там орден Ленина, и он в очках. Она чуть не упала в воду от смеха. Как я её! Ручку ей ладошкой: «Аполлон». Она мне: «Лиля». — «О, это не имя, это дачный романс!» Сели мы в лодку, начали плавать в этой луже, а лодок много, все сталкиваются, брызгаются, смех, май. И я так задумчиво ей своим профундо читаю, над всем прудом несётся: «Мы встречались с тобой на закате, ты веслом рассекала залив, я любил твоё белое платье, утончённость мечты разлюбив…»
— А что это, — спрашивает, — такое: «утончённость мечты разлюбив»?
— А вот, — говорю, — милая Лиля, если мы сейчас поедем к вам или ко мне, хотя я живу очень далеко, в Сокольниках, то я всё это объясню.
Ну чего, баба зрелая, явно хочет в постель, я ей понравился, чего тут в дудки дудеть. Она говорит:
— Давайте ко мне, я у Белорусского вокзала живу, рядом.
Отлично. Взял я в ресторане «Времена года» (это для понту, денег-то у меня в обрез) бутылку портвейна тринадцатый нумер, и мы поехали к ней. Где-то это у Тишинского рынка. Дверь нам открыла её единственная (как вскоре выяснилось) соседка — этакая старая карга в чорной шали по пояс, как летучая мышь или вестник Смерти.
Выпили. Разговорились. Персидский кот здоровенный подходит, ласкается. Если б я знал… Вскоре начал я её целовать, лифчик расстёгивать, да так долго возился, что она от нетерпения готова была мне в ширинку голову просунуть. Стучит зубами, «скорей!» скоргочет.
Тут меня «завело».
— Нет, — говорю, — желанная Лиля, я просто не могу, я извращённый (а сам ей чулочки медленно с ног скатываю — красивые ноги — как лепестки, а муфточка между ног так ходуном и ходит, ножки она уж задрала, дёргается от желания), я, — говорю, — буду иметь тебя в античных позах, но — в сапогах.
Она сперва не поняла: «милый… милый… скорей же…»
— Пока я буду бруки сымать, ты давай сапоги одевай. Сапоги у тебя есть? Ну, зимние, осенние, всё равно какие. Ну что смотришь?
А я уж банан свой достал, покачиваю. Она в сорочке бегом к шифоньеру, достала новые, австрийские. Натягивает на ноги, а всё смотрит, не шучу ли я. Тело у ней хорошее, как у двадцатилетней, налитое, только сисочки слабоваты.
— Оставайся в сорочке, я одетых люблю.
Задрала ноги, и… «Взревел Лука…» Ох и возились мы!
— Ты чего, правда, что ль, в сапогах любишь? — спрашиваю Аполлона.
— И даже очень. И одетых люблю, голых не уважаю. Особенно в белом чём-нибудь — как святая, как невинная. Ну и уже «подходит» у нас, она стоном стонет, а тут звонок телефона, а он у неё в коридоре на стене висит. Соседка-старуха, видать, в замочную скважину подглядывала, потому что тут же цоп трубку и кричит: «Лиля, тебя к телефону!» У Лили самый пик, какой ей телефон. А эта дура опять: «Лилька, к телефону тебя, не слышишь, что ли!»
И вот моя придурочная Лиля — в таком аховом состоянии — вместо того, чтоб промолчать, вдруг замычала-запричитала:
— Тася… я не… не могу… подойти… скажи… чтоб… позвонили… попозже…
— Ну скажи, Вольдемар, нормальная она или нет? Э, ты опять полный стакан тянешь. Я же сказал: помалу. У меня ещё есть, не жадничай.
— Да я, Аполлоша, граммочку, — жалобно протянул я. — Ну и чего ж дальше?
Лежим, перевариваем. Вернее, она переваривает, а у меня — тормоз. Не вышло. Да у кого ж выйдет в таком-то положении?!
— Ты, — говорю, — соображаешь, что делаешь? Попозже бы ответила, дела, что ль, такие важные, поезд уходит? Я даже не переношу, когда женщина во время акта разговаривает, а эта — целую телефонограмму передала. Идиотка ты.
Оправдывается, ласкается, говорит, что «не в себе была». Ничего себе «не в себе»! Теперь, думаю, вообще не вскочит…
Но минут так через двадцать опять звонок: оказывается, подруга сообщает, что на углу Лесной дают цыплят по 1 руб. 75 коп. Подошла ведь, крылатой бабки не стесняясь, в сорочке и сапогах, дура. Я пока по индусской методике сделал приседания, медитацию там, то, сё. Появилось желание, слава Богу. Полез на неё снова… И что ты думаешь? — тут мне на спину прыгнул этот чортов кот персидский! Всё, молча оделся и ушёл. Это какой-то сумасшедший дом, а не баба. Вот тебе и «кот с сапогами».
— Ну, дьякон, даёшь ты, прямо какие-то инфернальные штуки с тобой происходят. Завидую.
— Чему завидовать, чудила. Секса-то не вышло.
— И ты с ней — всё?
— Да на хрена мне, чтоб ещё крылатая бабка Тася вспрыгнула мне на спину? Между прочим, она ведь и дверь забыла запереть… А вот импотентом я ходил целый год. Честно рассказал моему знакомому психиатру, он мне чего-то дал, отпустило, но я так думаю, что просто психологически он на меня подействовал, некоей… если можно так назвать, благодатью. Нда. Вот так вот. Да что сапоги… Вот была у меня история — так это целая поэма. Назовём её условно «МУНДИР».
Раз мы про Парк Культуры говорим, то там, опять же, всё и началось. Точнее, в Нескучном саду. Тоже летом, тоже день жаркий, я сижу на бортовом камне (там ведь парапета нет, как обычно на набережных Москвы-реки), ножки в воду опустил, раздумываю, искупаться или нет. Благодать. Стрекозы ширяют над листвой голубенькие. Говнецо этак в водичке покачивается, презервативы проплывают. Словом, идиллия. Ещё б и бабу сюда… И надо же: по дорожке направляется ко мне босиком одна бабёшечка. Платьице лёгкое на ней, вроде сарафана, в руках босоножки несёт, мне улыбается:
— Как водичка?
— Парное молочко, — отвечаю. — А чево плавает — видите?
Смутилась.
— Хорошо это вы придумали — босиком-то гулять, а ножки не исколете, тут стекла много? Садитесь рядом, воду попробуете, можно искупаться.
Представь, села, ножки в воду. Тоже зрелая баба, красивая, лёгкая. Только смех резковат, и будто мужской профессией занимается, какая-то начальственность сквозит, а глаза — зелёные, редкие глаза, но… что-то в них тоже резкое, щурится хитро, огонёк вспыхивает. Да-а, думаю, эту сразу и так просто не провернёшь.
— Между прочим, — заявляю, — я ведь внук Чапаева. Аполлоном Чапаевым меня звать. Не верите?
Засмеялась и себя назвала: Надя.
— Прекрасное имя, вселяет надежды. Стихи любите?
— Хорошие — да.
— Хорошие — это Евтушенко, Вознесенский, да?
— Нет, я больше чистую лирику. Майков, Фет.
Ишь ты, образованная!
— У вас голос прекрасный (это она мне), ну, прочтите, что вы хотите.
— Я, — говорю, — прочту вам то, что нравилось моему дедушке — Северянина. Кстати, он (в смысле, дедушка) не утонул в Урале, а выплыл, а потом долго жил в подполье и умер от запоя. Слушайте же:
Это было у моря, где ажурная пэна,
Где встречается редко городской экипаж.
Королева играла в башне замка Шопэна,
И, внимая Шопэну, полюбил её паж.
Было всё очень просто, было всё очень мило:
Королева просила перерезать гранат,
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат…
— Роскошные стихи, — говорит, — я, — говорит, — таких в жизни не слыхала. — Сама же мечтательно смотрит вдаль, на Академию Фрунзе. — Кругом одна грубятина, маяковщина, а это…