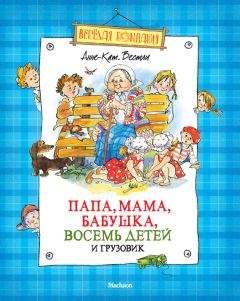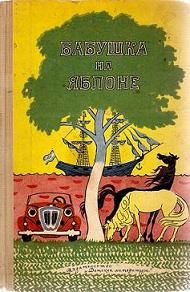Юрий Турчик - Лестница
Ценилась, помню, не столько сила, сколько смелость, бесстрашие. И я был не последним учеником… Не забуду никогда непрерывные драки взрослых у нас на углу — не драки, убийства! Под вечер, чаще — в праздничные дни, кто-то с кем-то сводил счеты. Станция “скорой помощи” была недалеко, рядом с нашим двором — возможно, это и определяло выбор места для “поединков”. Во всяком случае, когда все заканчивалось и один или два трупа или полутрупа, окровавленные, замирали на тротуаре, подъезжала карета, как тогда говорили, “скорой помощи” и увозила пострадавших. Милиция в нашем районе не показывалась — то ли ее было мало, то ли опасалась появляться… И все это происходило на наших глазах, уже, надо сказать, не расширявшихся от ужаса…
“…Кто не любит бога, любит смерть!” — сказала бабушка, когда я уже выходил из гостиной, и я не слышал, что ответила ей моя мама. Но — ответила, бабушкины речи о боге мама не оставляла без ответа, тут она была со мной заодно. Конечно, она не говорила бабушке, что она отсталая, что обманывала своего внука, рассказывая ему об Иисусе Христе; это позволял себе заявлять я, мама только просила бабушку не говорить на такие темы в моем присутствии. “Я же тебя просила, мама!” — повторяла она в подобных случаях. Но однажды и мама заявила бабушке: “Бога нет”. Я услышал звонкий мамин голос и вошел в гостиную. Бабушка сидела в своем глубоком низеньком кресле и, улыбаясь одними глазами, смотрела на маму. Маму не остановило мое появление, даже прибавило ей пыла. “Нет! Понимаешь?” — продолжила она громко. Тогда бабушка сказала: “Если бога нет, почему же ты кричишь об этом?… Нет, так нет!” И мама, не найдя, что ответить, как-то обмякла, словно футбольный мяч, когда из него вдруг вырвется воздух, повернулась и вышла из комнаты. И в глазах у бабушки сразу погасла улыбка. Она и не взглянула на меня. И я не подошел к ней, не положил голову к ней на колени, как когда-то… Да я уже и не смог бы — чтобы положить голову ей на колени, мне самому теперь пришлось бы опуститься перед ней на колени, ведь я уже вырос, стал одного роста с бабушкой… И сколько мне пришлось еще расти, чтобы захотеть и смочь упасть перед бабушкой на колени и попросить у нее прощения за все обиды!… Ведь я понимал и тогда, что бабушка ждет, что я подойду к ней! Я понимал, видел это! Как понимал и то, что не “веселая жизнь” царит в убогом деревенском домике Ульяновны, а горе, что живут там действительно “несчастные, больные люди”!… Но чем лучше понимал, тем меньше хотел понимать! Могу сказать еще определенней: чем больше я понимал жизнь, людей, тем быстрей бежал от этого понимания… Такая вот тактика. Полной противоположностью мне в этом был мой двоюродный брат: он не просто любил слушать разговоры взрослых, он мыслил: сопоставлял, сверял, подвергал сомнению… Уже в пятом классе он твердо знал, что будет историком, и готовился им стать: много читал, делал выписки и, хотя не стал им, до сих пор не утратил этой страсти все подвергать проверке, уточнению, так, правда, и не приходя к окончательным выводам — что, вероятно, и подобает профессиональному историку. Но вот что удивительно: брат мой все позабыл! Или — почти все, что было в нашем детстве! Те же разговоры взрослых, даже имена!… Он и сам, хотя и не очень, удивляется этому, говорит: “Надо было все записывать!… Все мы задним умом крепки!…”
Последняя фраза брата, как солнце, осветила во мне довоенную комнату, где мы жили с мамой (отец только появлялся в ней), ее зеленоватые, “салатные”, стены, портрет Ворошилова на одной из них, мой веселый зелено-рыжий диван, белоснежную постель на широкой кровати мамы, коричневый платяной шкаф, темно-красный письменный стол у окна, такого широкого и высокого, что четвертой стеной комнаты можно было считать само небо, если смотреть в окно, лежа на диване или на кровати, и нашу речку, и город до горизонта, если смотреть сидя или стоя, и затягивающую в себя бездну нашего двора с кукольными фигурками людей, если приблизиться к распахнутому окну, к его низенькому подоконнику — наверное, с этим были связаны мои детские сны о падении с огромной высоты, когда я болел, продолжавшиеся до тех пор, пока я не стал летать, выздоровев и научившись плавать (я и летал во сне “брассом”); осветила и тот день (комната наша тогда была наполнена солнцем), когда мы с братом жестоко подрались — так, как не дрались никогда… Я и до этого помнил о той жестокой, безобразной драке, но только сейчас, под конец жизни, вспомнил, откуда у меня взялась такая жестокость, ненависть к брату: я утверждал, что все смогу, когда вырасту, что буду всем, кем только пожелаю, что побываю во всех странах, даже на других планетах, что уже теперь могу такое, чего не могут многие мои ровесники, например, он, мой брат, что, наконец, никогда не умру, если сам не захочу (последнее я доверял брату как тайну, которую не мог выразить иначе как таким одиозным образом); брат же упрямо и насмешливо возражал мне, твердил, что такого не бывает и не может быть, что человек становится кем-то одним: или моряком, или летчиком, или инженером, или историком; и — это смешно, что я никогда не умру; и — что я могу далеко не все, а что могу, то может и он или скоро научится этому… Как мы били друг друга! Особенно сильно и беспощадно — я! Ведь я был сильнее, чем он! Он же только отвечал ударом на удар, и чем сильней бил я, тем сильней старался ударить и он, и тем еще сильней бил я… Не знаю, чем бы все у нас закончилось, если бы не появилась бабушка — в квартире никого, кроме нас и бабушки, не было, я и сидел дома потому, что бабушка заболела, лежала в своей комнате… Она появилась в дверях вся белая: волосы у нее были распущены, ночная сорочка до пола, она встала с постели, черные ее глаза смотрели с ужасом… Мы вытирали кровь с лица и смотрели на нее… “Вон!” — прошептала она, глядя на меня. “А мне мама сказала, чтоб я сидел дома!” — ответил я грубо. “Вон!”—повторила она тихо, не отрывая от меня своих глаз… И мы с братом вышли, стали медленно спускаться по лестнице… Хорошо это помню: медленно!… Ведь я должен был сидеть дома! И мама приказала мне, и Женя просила меня об этом — бабушке могла потребоваться помощь!… Я и вернулся скоро. А брат ушел домой, он тогда жил уже в другом доме на нашей же улице, хотя все время проводил у нас, в нашем дворе или у нас в квартире. И этим, возможно, тоже можно объяснить то, что в памяти брата не все сохранилось — родным для него становился другой дом!… Но я все же не решаюсь спросить брата, помнит ли он ту нашу драку — он уже перенес инфаркт, его жена оберегает его от лишних волнений, да и он сам старается избегать “нештатных перегрузок”, как он со вкусом говорит; он работает на оборонном заводе, продолжает работать, хотя мог бы уже уйти на пенсию…
Однако что-то он, конечно, помнит, вспоминает с удовольствием смешные фамилии, клички жильцов нашего дома, “Хаим” (Иван Абрамович), “Бурьян” (Бурьен, толстовская фамилия француза, веселого человека, жившего на втором этаже с женой по фамилии Заверюха), имена, хоть и не все, наших друзей, но судьбы этих людей его не очень интересуют. Верней, ему нужны, так сказать, доказательства, что все, что с ними случилось, было именно так, а не иначе. Доказательств же у меня, в частности, нет, как нет уже и очевидцев, а тем более самих героев тех давних событий, и они для брата как бы и не происходили вовсе, возникли в чьем-то испуганном воображении. Правда, я не знаю, не представляю себе, что изменилось бы, получи брат какие-нибудь доказательства, разболелось бы сердце? Но сегодня перед ним предостаточно всяческих “доказательств” подобного рода, он много читает, и ничего, слава богу! Впрочем, ему и теперь не хватает доказательств — и в отношении Сталина, и — 37 года, и он сохраняет спокойствие, остается историком “по существу”, как он объяснил мне. “По призванию!” — попробовал я уточнить. “Нет, по существу! — сказал он, как бы застенчиво улыбаясь, давая понять, что не шутит. — Ведь в чем смысл дотошности, скрупулезности историка? В том, чтобы возведенное здание истории было именно таким, каким оно было! Мы же, что делать — судьба!, работаем над его завершающей частью, так сказать… Как оно называется в архитектуре? Фронтон?…” Мне нечего было ему ответить — все мы, так или иначе, работали над “завершающей частью” истории, старались покончить с ней, со временем, и чем, спрашивается, отличалась моя хорошая память от плохой брата? Ничем. Или тем, чем отличается бегство от планомерного отступления: я не хотел вспоминать, он просто забывал…
Лестница нашего дома — лучший для меня образ моего бегства, в котором, я уже говорил об этом, скорость спуска возрастала прямо пропорционально степени понимания того, что происходило за дверьми квартир, мимо которых я пролетал (с тех пор, как стал “летать”) или — “проныривал” (с тех пор, как научился плавать), и для меня долго оставалось загадкой: откуда же бралось это “понимание”, ведь я не заходил в эти квартиры, за исключением двух-трех, где жили мои друзья, хотя видел, знал всех их обитателей?