Галина Щербакова - Случай с Кузьменко
Верка сложила листок вчетверо и глубоко протолкнула его в нагрудный карман пиджака Кузьменко. И уж совсем с восторгом обнаружила, что в могучей груди забойщика сердце билось сильнее, чем надо.
– У вас не тахикардия? – елейно спросила она.– А то приходите, я вам электрокардиограмму устрою.
Но Кузьменко молчал. Замолчала и Верка. Она смотрела на дорогу и думала о том, что теперь будет. Уедет Кузьменко в Москву, останется его Тонька с пацанами. Так ей и надо. Созданная собственными руками чужая любовь казалась Верке столь прекрасной и столь разрушающей, что ничто не могло эту любовь остановить.
– Бедные! – жалела Кузьменко и Шурку Верка.– Столько лет ждали!
…Сложив руки под фартуком, Антонина смотрела, как Кузьменко заводит машину во двор. Она видела, как он подвез к дому Корониху. Шалопутная Верка, видать, пол-Москвы домой свезла. Выгружали, выгружали… Надо будет сказать Леониду, чтоб в следующий раз не брал в машину кого зря. Не мальчик. Автобусы есть, такси. Пусть пользуются. Нечего возить задарма. Антонина не любила Верку, Во-первых, эти чертовы мини. Наденет платье – колени видать, а идет за водой с коромыслом, руки вверх поднимет, тут уж – хоть стой, хоть падай. Ни стыда ни совести, чурбак с глазами. А хлопцы тут же на улицу. Как Верка мимо дома, так они за калитку. «Ла-ла-ла, ла-ла-ла». А она ногой постукивает, грудь вперед, и о том, что дите у нее, а мужа нет, и не помнит. Антонина ей говорила: «Вера, тебе короткое не идет, у тебя зад широкий и живот большой». А та хохочет. «Я, говорит, молодая, у меня полнота не от обжорства и неподвижности, а от здоровья и энергии. Попробуй, Тоня, меня ущипнуть. Я ж вся налитая! На мне ж не жир, а мышца…»
О чем тут говорить? Ей про Фому, а она про Ерему.
Леонид постучал носиком умывальника, вытер о тряпицу, что висела на заборе, руки, а Антонина все стояла. Что-то ей не нравилось сейчас в муже. Приехал вовремя, не задержался, значит, шалопутную подсадил действительно по дороге, а лицо как с доски Почета – перепуганное и лупатое.
– Ты где Верку взял? – спросила Тоня.
– Ну где ж еще? На автобусной,– не своим голосом ответил Кузьменко,
И этот голос, хриплый и какой-то странно теплый, и глаза, какие бывают у него после курорта – синие-синие, отмытые-отмытые,– насторожили Антонину серьезно. Кузьменко пошел в дом, а она быстренько кинулась к машине, заглянула. Ничего подозрительного в машине не было. А что там могло быть? Антонина хлопнула дверцей и тоже пошла в дом. Кузьменко стоял в одних трусах и аккуратно, на плечики вешал костюм. Нет, ничего подозрительного и в голом Кузьменко не было.
– Так Верка из Москвы, что ли? – пробиралась в неизвестном направлении Антонина.
– Отстань ты со своей Веркой!– Обозлился Кузьменко, и жена сразу успокоилась. Голос его был обычным, резковатым и суровым, и глаза стали привычные, запыленные, уставшие.– Довез бабу с барахлом. Чего привязалась?
– Спросить уж нельзя,– весело ответила Антонина.– Все такие нервные, все такие нежные.– И она, подхватив за плечики костюм, уже спокойно направилась к шифоньеру.
Но Кузьменко, видать, все-таки сегодня не с той ноги встал – он выхватил у жены костюм и сам открыл дверцу шифоньера.
– Что я, маленький? Не повешу? Ты мне поесть лучше дай.
Антонина, пожав плечами, ушла, а Кузьменко вынул из нагрудного кармана сложенный вчетверо листок, достал из другого костюма партийный билет и спрятал листок между билетом и кожаной обложечкой. Когда он перекладывал листок, глаза у него были синие-синие…
…Кузьменко низко склонился над тарелкой. От жареной картошки поднимался жар, в жару тоненько попискивали желтые, медовые кусочки сала. Нет, невкусная была сегодня еда. Кузьменко разворошил картошку, вытащил из нее сало. «Где ты купила такое поганое?» – и, зажав вилку, как трезубец, замер. Ну, чего наговорила эта шалопутная Верка? Ясно, выдумала! Что, Шурка Киреева ненормальная, чтоб столько лет его не видеть и любить? Да и вообще, кто в их возрасте об этом "говорит? Верка – трепло, ей что сбрехать, что в обнимку станцевать… Сбрехать еще лучше. Но тут же Кузьменко вспомнил сложенный вчетверо листочек из блокнота. Телефон-то и адрес настоящие, и какая б ни была Корониха болтушка, не стала бы она вот так, ни с того ни с сего, записывать его Кузьменко. Значит, разговор был. Был, был, был… Не могла же Верка, если они с Шуркой говорили про то, к примеру, сколько стоит шуба, придумать разговор про любовь… Значит, про нее… про любовь… и шел разговор… Ну, может, что-то там Верка и сбрехнула, но уж конечно не это: «Он, наверно, бывает в Москве, пусть зайдет. Должны же мы встретиться». Придумать такое нельзя, твердо решил Кузьменко, тем более что адрес-то дан!
Что-то горячее заколобродило в его душе, захотелось встать и хрустнуть всеми косточками, и Кузьменко встал, широко развернул плечи, свел лопатки, втянул живот и тут же отпустил, потому что резинка в трусах, перестав чувствовать привычную опору, перепуганно прыгнула вниз, увлекаемая широкими сатиновыми штанинами. «Стоп!» – сказал Кузьменко и поймал ее на полдороге.
А Антонина стояла на крыльце и наблюдала за мужем, Она решила, что, как только он уйдет отдыхать перед второй сменой, она мотнется к Верке, будто посмотреть, что та привезла, а на самом деле выяснить, что произошло у них в машине. Ведь Кузьменко, во-первых, сам на себя не похож, во-вторых, не ест и ругает сало, а сало свежее и прекрасное, а в-третьих, как маленький, играет мускулами – и где? За столом! Над несъеденной картошкой.
А Кузьменко пошел в сад. Там на раскладушке под сливой он обычно отдыхал. Но сейчас, вместо того чтобы лечь на бок и укрыться с головой полосатой простыней, он вытянулся на спине, закинул под голову руки и уставился на сливу.
Антонина сняла фартук, посмотрела на лежащего в непривычной позе мужа, мазнула перед зеркальцем два раза губы и пошла в сторону Веркиного дома.
…Кузьменко вспоминал. Вспоминал свой седьмой класс. Был это пятидесятый год. Ему было уже семнадцать, из-за войны он припозднился в школе. Вспоминал класс, перегороженный печкой. Место за печкой было лучшим – и самое теплое, и от учителя далеко. Вот они, переростки, там и проживали, А из-за печки была видна ему парта, на которой сидела Тонька. Красивая она была девчонка. Волосы вьющиеся, румянец во всю щеку, она все поворачивалась и смотрела за печку. А он ей подмигивал. Он это тогда классически делал. Чуб на глазах висит, как занавеска. Он им слегка, небрежно тряхнет, и в тот момент, пока чуб где-то колышется, а глаза свет видят, он вытворял этими глазами черт знает что: прищуривал, широко раскрывал, слегка прикрывал ресницами левый глаз, а правым смотрел лукаво и преданно. Да мало ли что можно было успеть сделать за печкой, когда смотрит на тебя Тонька и чуть-чуть, но со значением шевелит тонкими своими розовыми ноздрями.
Кузьменко спохватился. Это ж надо! После того, что он сегодня узнал, вспоминать, как он подмигивал Тоньке! Ну совсем его баба замордовала. Он со злостью, но и с некоторым уважением подумал о жене, которая, он видел, чувствовал, заметила что-то и сейчас наверняка, намажет губы и тронется к Верке. «Интересно,– думал Кузьменко,– скажет ей Верка про это?» И тут же успокоился: не скажет. И снова что-то горячее заколыхалось в нем, он зажмурил глаза и вернулся в пятидесятый, за печку. Только теперь через чуб-занавесочку он смотрел не на тонкие ноздри Тоньки, а, сдвинувшись к краю и наклонив голову, отыскал черноволосый затылок Шурки Киреевой. Вот она поворачивает голову – худое, скуластенькое личико с громадными, как сливы, глазами. Смотрит внимательно, строго, как дурачится на уроке Кузьменко. А что ему до этих строгих взглядов? Он последний год в школе, пусть мелкота учится дальше. Шурка – мелкота. Ей, как и полагается, всего четырнадцать лет… Она еще дите на тонких ножках. Подчиняясь могучей, брызжущей силе того, семнадцатилетнего шалопая, Кузьменко опять видел в мелких кудельках ухо Тоньки, ее коротенький нос и всю ее… Куда было девчонкам тягаться с Тонькою! Пустой это номер.
Но Кузьменко не хотелось думать о Тоньке. Он про нее все знал, знал, где у нее что болит и как она дышит, знал ее запах, знал ее на ощупь, он знал, о чем она думает, когда молчит, и что хочет скрыть, когда языком болтает. И эта известная вдоль и поперек женщина никогда не говорила ему, что его любит. Если быть честным, то и он, Кузьменко, ничего ей такого не говорил. О любви им рассказывал телевизор – самый большой]! какой только может быть. Антонина все бросала, а смотрела такие передачи, да и Кузьменко с интересом просмотрел двадцать шесть серий «Саги о Форсайтах». Смешно сказать, но, пока шла эта «сага», он работал только в первую смену. Он, Кузьменко, уже мог себе это позволить и договориться с кем надо. Но в жизни слово «любить» он не употреблял. Во всяком случае, последние тридцать лет, Что зря воздух колыхать? Они живут хорошо, у них дети. То, что у него с женой,– семейная жизнь, со всеми неприятностями, с болезнями детей, старением. Конечно, у всех то же самое, с той разницей, что кроме жен некоторые знакомые Кузьменко время от времени встречались с другими женщинами. Но любовью это тоже никто не называл. Были для этого другие слова, другие понятия. Вот сегодня, когда бросилась наперерез его машине Верка, что-то игривое шевельнулось в груди Кузьменко. Корониха – женщина аппетитная, он давно это заметил. Он с удовольствием смотрит, как она несет воду на коромысле. Аж земля под ней гнется! Но это разве любовь!
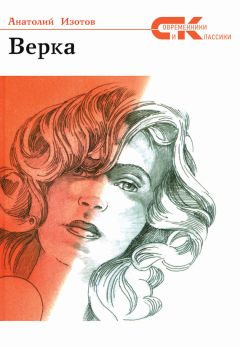

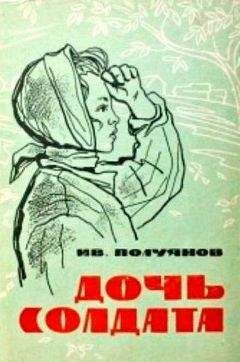

![Стивен Кинг - Необходимые вещи [= Нужные вещи]](/uploads/posts/books/85445/85445.jpg)