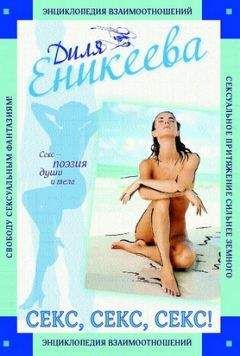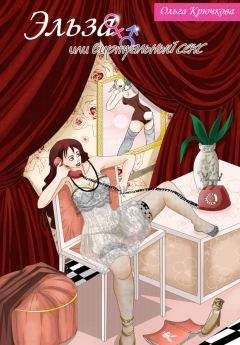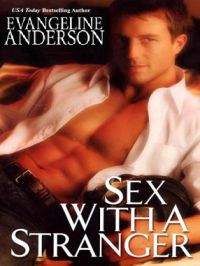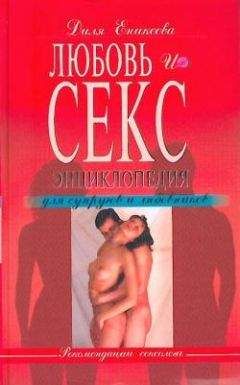Эржебет Галгоци - Церковь святого Христофора
— У нас нет на это денег. Что есть — и то верующие собрали.
Старуха, заботливо свернув пастырское облачение, уложила его в старинный, с резьбою, сундук. И вдруг возбужденно заговорила:
— Толковала я вам, господин декан, чтобы не только в церкви собирать! Кто нынче ходит в церковь? Одна-две старухи, вроде меня! А надо было по всему селу собирать! Сельский совет попросить! Кооператив!.. У кого в селе теперь деньги водятся? У сельхозкооператива!.. Коли бассейн построить могут, могли б и на церковь раскошелиться!.. Я вам когда еще толковала!
— Не столь великая ценность церквушка эта, тетушка Агнеш, — терпеливо принялся объяснять декан. — В восемнадцатом веке когда-то построена. На такое у епархии денег нет. У комитета по охране памятников тоже… Их средства на епископский дворец пойдут, на собор кафедральный — неподалеку от него опять остатки римских сооружений нашли — да на лебеньскую церковь[1]… Были тут из разных учреждений, обследовать обследовали, но реставрировать не взялись, потому что… — Покосившись на реставратора из Пешта, старик тактично умолк.
— Знаю. — Жофия пожала плечами. — Считают, что не стоит трудов, да? — Она достала из сумки сигарету, но, в знак уважения к святыне, не закурила, только вертела сигарету в пальцах. — В Венгрии памятников так мало, что, даже если обнаруживается погреб, которому двести лет, наш долг и его сохранить.
Старая Агнеш попрощалась.
— Ну, вы уж покрасивше тут разрисуйте.
Декан остановился посредине нефа и, пока Жофия осматривалась, рассказывал:
— Эта церковь помещичья, ее Семереди строили. Старый дворянский род, тысячью хольдов[2] владели. В замке теперь школа. Из усадебных построек сохранилась еще корчма, а конюшни, сараи, амбары в сорок пятом разнесли батраки… По кирпичику разобрали. Характерно, увы, что корчму пощадили. — Он указал на алтарь. — Святой Христофор, заступник путешествующих и кладоискателей. Легенду о нем знаете? — Жофия кивнула. — Когда господь наш Христос обходил землю со святым Петром, возжелали они через большую реку перебраться, а как это сделать — лодки нигде нет. И тут как раз святой Христофор подоспел, перенес он сперва святого Петра, потом вернулся за Иисусом. Дошел до середины реки, да и говорит: «О господи, господи, может, я весь свет на себе несу?» — «Воистину несешь», — ответил ему Иисус… По другой легенде, отправился Христофор на поиски величайшего из сокровищ, а величайшее-то сокровище — Иисус, которого обрел он… Оттого, вероятно, и почитают его патроном кладоискателей.
— В неважном он состоянии, — заметила Жофия, ближе подойдя к алтарю. — Картина, кажется, очень старая… И, возможно, не всегда висела здесь. Быть может, ее прятали в подвале, в склепе…
Священник, не слыша, задумчиво стоял посреди церкви.
Тридцать лет назад, в сорок восьмом — сорок девятом, прихожане надумали строить церковь, эта мала оказалась, уже не вмещала всех. Тогда еще люди веровали. Зазвонит, бывало, колокол в полдень, так они и во время жатвы, прямо среди поля, все же прочтут разок «Отче наш»… А нынче на алтарный образ с грехом пополам собрали… Неужели это так много — тридцать лет?
В нише под сводом ризницы Жофия обнаружила побеленную известкой чуть ли не потайную дверцу.
— Эта дверь в склеп ведет?
Спросила она просто так, без всякого любопытства или особой заинтересованности, но декан резко вскинул голову.
— Из чего вы заключаете, что здесь имеется склеп?
— Капелла старого дворянского рода, семья, очевидно, здесь хоронила своих покойников. Можно взглянуть?
Священник испытующе, со скрытой тревогой смотрел на явившуюся из столицы незнакомку.
— Что вы хотите увидеть в обычной усыпальнице?
Жофия не понимала, к чему эти увертки, и ответила с некоторым нетерпением:
— То, что там есть! Стены. Камни. Гербы. Надгробные надписи. Саркофаги. Барельефы… почем я знаю.
— Ключа я не взял, — отозвался священник, колеблясь. — Я храню его у себя дома.
Жофия, спросившая о склепе лишь из профессионального педантизма, теперь, видя явное сопротивление священника, почувствовала даже разочарование.
— Ну что ж, до другого раза.
Когда они вышли из капеллы, июньская жара, яркое солнце, буйная растительность парка объяли их так плотно, что казалось, они попали в какую-то иную среду. В глубине, из-за деревьев просвечивала охряная желтизна барского дома. У наружной стены церквушки Жофия увидела несколько замшелых, позабытых надгробий — одни упали, другие стояли еще, совсем покосившись.
— А здесь кого хоронили?
— Не совсем полноправных членов семейства Семереди. Невесток, не родивших потомства… Двухдневных младенцев… Компаньонку из Швейцарии. Надписи уже почти стерлись.
Декан запер церковь и теперь весело раскачивал на пальце большой и нарядный ключ. Казалось, у него стало легче на душе.
— Вы уже завтракали? Я был бы очень рад…
Жофия так набила «трабант» багажом, что задних сидений не было видно. Теперь она втиснула туда еще несколько сумок с переднего сиденья.
— Садитесь, господин декан… Значит, хоронили все-таки в склепе.
Дом священника о восьми окнах стоял на углу; когда-то он выглядел, должно быть, внушительно, но теперь, рядом с обступившими его кричаще новенькими, двухэтажными крестьянскими хоромами, напоминал допотопный господский амбар. Под его сводчатыми воротами когда-то свободно проезжала телега с сеном, запряженная четверкой волов. Во двор выступала широкая терраса на столбиках, переходившая в застекленный коридор. Просторный, заботливо возделанный двор делился на цветник и огород. Море цветов — вьющиеся и кустовые розы, заросли сирени, гладиолусы, бегонии, бархатцы, кукушкины слезки, трясунки разноцветные, пеларгонии, флоксы, цинии… Пиршество цветов ошеломило Жофию; декан с гордостью наблюдал за выражением ее лица.
— Какая красота! — прошептала Жофия. Вот ведь и так можно жить, а не среди трупов цветов, которые она забывает поливать потому, что другим занята голова…
— Люблю жизнь вокруг себя, — скромно заметил декан. — В прежние времена сельскому священнику здесь отводили целый надел, двадцать пять хольдов. Да и сейчас полагается восемьсот квадратных саженей от сельхозкооператива — но куда же мне столько? И так-то напросишься, пока подрядишь человека хоть двор вскопать, засеять да промотыжить. — Увидев в огороде то и дело наклонявшуюся к земле женщину, он крикнул громко: — Пирока, у нас гостья!
Грузная женщина лет пятидесяти в ярком халате и в синих, донельзя стоптанных домашних туфлях, тяжело ступая, шла к ним из огорода. Держа на левой руке соломенную кошелку с только что надерганной редиской, она протянула Жофии выпачканную в земле правую руку. На мясистом лице — заученная любезная улыбка.
— Жофия Тюю, реставратор.
— Очень рада. Как же, наслышаны о вашем искусстве!
Жофия оторопела.
— О моем искусстве?.. В этом селе?.. Да ведь меня и среди коллег…
Но вдруг Пирока буквально набросилась на нее:
— А вот скажите, почем нынче редиска в Будапеште?
— Редиска? — удивилась Жофия. («Ну и домоправительница! То — обо мне наслышана, то — редиска… Вот коньяк сколько стоит, я, пожалуй, еще сказала бы…») — Понятия не имею, Пирока.
Пирока выхватила из кошелки самую никудышную редиску и торжествующе помахала ею перед носом священника и его гостьи.
— А знаете, во что нам обходится вот такая одна-единственная редисина? В двадцать форинтов! Потому что тут и те двести корней клубневой бегонии, что господин декан выписал из Пешта, из сельхозкооператива «Розмарин», да с садовником вместе, который сажал ее. Вот так-то, кушайте на здоровье!
Декан виновато улыбнулся.
— У батюшки моего, знаете, присказка такая была: накажи тя господь дурными соседями да двором, бурьяном заросшим… Разве ж лучше, если б тут сорняки все заполонили?
На выложенной красным кирпичом веранде тоже полно было цветов: вьющиеся растения оплели стены, словно тончайшая зеленая вуаль. Веранда была просторная и длинная, самая широкая часть ее, обставленная садовой мебелью, служила для отдыха, оттуда же был вход в четыре комнаты: спальню-кабинет, столовую, приемную залу и комнатушку для капеллана. Дальше, на изгибе галереи, свободно ходившая на шарнирах дверь, за ней — ванная комната, кухня, чулан для провизии, комната для прислуги.
Стол, накрытый Пирокой, напоминал натюрморты импрессионистов или столичный буфет с холодными закусками: на фарфоровой менажнице — разные колбасы, копченое сало, сыр, масло, яйца всмятку; в плетеной лодочке — нарезанный хлеб, на деревянном блюде — свежая, с грядки, редиска, в зеленом обливном кувшине, словно невзначай оставленном на столе, — три розы. Белая скатерть камчатого полотна и такие же салфетки.