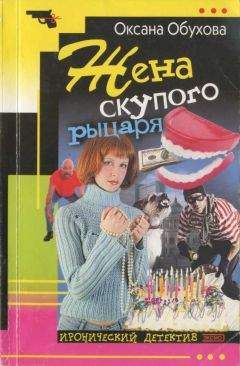Лазарь Лагин - Жизнь тому назад
Я никогда не забуду, как в 1926 году в Ростове-на-Дону, в комнатке подвала Дома печати, где ростовские писатели собрались на встречу с Маяковским, он читал нам (и как читал! Не хуже автора!) «Улялаевщину» Сельвинского и «Гренаду» Светлова. Он был рад, что мог первым прочитать нам эти произведения. А ведь Илья Сельвинский был самым главным конструктивистом, а молодогвардеец Михаил Светлов — тот и вовсе одно время состоял в «Перевале».
Вот тебе и групповщина!
С тех пор прошло почти полстолетия, и я забыл фамилию этого лощеного и крикливого молодого человека. Назовем его для удобства ну хоть Коровичем, что ли!
Политехнический музей. Большая аудитория. На эстраде Маяковский. Он аккуратно разложил на столе книжки и журналы, которые будет цитировать, снял с себя пиджак, повесил его на спинку стула, вышел к краю эстрады и перед тем, как приступить к докладу, обращается в зал с вопросом:
— Корович пришел?
Этого вопроса ожидали. В зале оживление, люди заулыбались. Частые посетители вечеров Маяковского, а таких всегда бывало в аудитории вполне достаточно, знали вертлявого, тощего, претенциозно модно одетого молодого человека с богатырскими ватными плечами пиджака. Надо полагать, в нем погибли задатки модного портного: он завел себе неимоверно обширные плечи за десятилетия до того, как они стали обычным атрибутом модного пиджака. Коровича томил чудовищный комплекс неполноценности, и он выбрал себе легкий путь к самоутверждению и славе. Он ходил на все вечера Маяковского и не щадил своей глотки, выкрикивая всякие обидности и пакости.
Вот Маяковский и стал каждый раз перед началом выступления осведомляться у аудитории, пришел ли уже Корович, который, дескать, стал необходимым атрибутом всякого литературного вечера.
Веселые голоса издала откликались:
— Пришел Корович!.. Здесь Корович!.. А как же!..
Маяковский (деловито):
— Значит, можно начинать.
Так продолжалось несколько раз, пока уже из зала, не ожидая вопроса Маяковского, стали кричать:
— Пришел, пришел!.. Здесь голубчик!..
И ведь на что мелкий человечишка был Корович, а пал в конце концов духом и замолк.
Зачастил одно время на вечера Маяковского другой «активист», радетель «чистого искусства». Этот чуть что орал: «Моссельпром!.. Моссельпром!» — в том смысле, что вот Маяковский небось считает себя настоящим поэтом, а опустился до того, что пишет стихотворные подписи к рекламным плакатам этого только что тогда организованного советского треста. Они кончались, эти подписи, облетевшими всю страну словами: «Нигде, кроме как в Моссельпроме». С точки зрения ревнителей «чистого искусства» писание таких подписей попахивало профанацией поэзии.
Слушал Маяковский эти выкрики не раз и не два, да и сказал:
— Вы знаете, почему этот гражданин против Моссельпрома! У него папа частник!
Гром аплодисментов, крикливый борец против Моссельпрома в глубоком нокауте. Замолк.
Враждебные выкрики почти всегда из передних, дорогих рядов. Тут и нэпманов хватает, и околонэпманской интеллигенции и полуинтеллигенции. Молодежь, комсомольцы, студенты, рабфаковцы — горой за Маяковского. Но ответы Маяковского на реплики с мест настолько молниеносны, остроумны, так без промаха бьют, что зачастую смеются его ответам и те, кто пришел в надежде на скандал.
Сколько раз Маяковскому пришлось отвечать на выкрики из зала: «Маяковский! Рабочие вас не понимают!»
Обычно он на подобные декларации отвечал уважительно, но раз не выдержал: выкрикнул ему эту обидную фразу мужчина весьма не пролетарского облика, и Маяковский ответил:
— Если вы от рабочего класса, почему у вас голос такой писклявый!
Именно не «пискливый», а «писклявый». Это было особенно уничижительно — «писклявый».
Какой-то интеллигентный нэпман весь в мыле, давясь от бешенства, подбегает к самой эстраде и, потрясая кулачками, кричит:
— Вы не поэт, Маяковский!.. Вы труп, труп, труп!..
Маяковский почти сочувственно смотрит на сразу оробевшего и обмякшего господинчика и задумчиво, не повышая голоса, обращается к аудитории:
— Странное дело: я — труп, а смердит он!
Были, конечно, и среди хороших советских людей многие, кто не целиком, а иногда и вовсе не принимал Маяковского. Многие из них потом переменили свое мнение, другие так и не признали его подлинно новаторскую, революционную поэзию. Что правда, то правда. Но еще в большей степени правда, что все реакционное, контрреволюционное, что оставалось еще в те годы в юной Республике Советов, даже фамилии Маяковского не могло слышать без скрежета зубовного.
За долгие годы своих публичных выступлений Маяковский получил не одну тысячу записок. Очень много дружеских, одобрительных но, очевидно, и немалое количество враждебных — на то он и был поэтом Революции. Хватало среди последних и насчет того, что рабочие его, дескать, не понимают. Он и на них отвечал. Убедительно отвечал. Слава богу, поднакопился кой-какой опыт. Но каждый раз, я этому неоднократно был свидетелем, он воспринимал подобное обвинение с такой же болью, как и впервые.
В седьмом номере журнала «Дон» за 1968 год в связи с семидесятипятилетием со дня рождения Маяковского был помещен очерк старейшего ростовского поэта Вениамина Жака. В нем рассказывалось о Маяковском в Ростове-на-Дону.
Описание выступления Владимира Владимировича в знаменитой «столовке» Ленинских мастерских Владикавказской железной дороги завершается так:
«В конце вечера, может быть под впечатлением выступления Лагина, Маяковский проголосовал:
— Кому понятны мои стихи!
Поднял руки весь зал».
С «может быть» спорить трудно. Лично я уверен, что и без моего выступления голосование дало бы тот же самый результат. Но смею думать, что оно во всяком случае не ухудшило отношения собравшихся в столовой железнодорожников и членов их семей к Маяковскому и его творениям.
Память об этом вечере, пожалуй, самое дорогое воспоминание в моей достаточно долгой литературной жизни. С него началось мое длившееся до самых последних дней поэта доброе (я бы сказал — не разовое) с ним знакомство. На этом вечере я произнес единственную в моей жизни по-настоящему очень нужную и мне и другим речь на литературную тему. И если я сорок с лишним лет не решался выступить с воспоминаниями о Маяковском, то только потому, что опасался первый говорить о том, что между делом, но все же на двух колонках из шестнадцати рассказал обо мне в связи с пребыванием Маяковского в Ростове Вениамин Константинович Жак.
Теперь я чувствую себя вправе сделать некоторые дополнения и уточнения к этому интересному очерку, по крайней мере в той части, которая касается моей скромной особы.
Для этого мне предварительно нужно сказать несколько слов о первой в том году встрече ростовских писателей с Маяковским, которая состоялась в начале февраля двадцать шестого года в подвале Дома печати. Тогда он располагался на углу Суворовской и проспекта Карла Маркса. Кстати, именно здесь и в том же году читал нам совсем еще молоденький, Александр Фадеев свой еще не опубликованный «Разгром». Была бы моя воля, я бы отметил это место специальной мемориальной доской.
До сих пор не пойму, почему я в тот памятный вечер сидел вместе с Александром Бусыгиным, председательствующим, поэтом Обуховым и, конечно, нашим почетным гостем Маяковским на эстраде впритирочку за куцапеньким и зыбким столиком президиума. Надо полагать, я удостоился этой чести как единственный тогда в Ростове представитель красноармейской музы. Для нас, ростовских поэтов, это было не обычное собрание: мы читали свои стихи Маяковскому. Пролетарские поэты, с замиранием сердца выносящие свои произведения на суд «попутчику» Маяковскому! И не тайком, а в организованном порядке. Ситуация!
Вряд ли можно переоценить то чувство оскорбленной справедливости, какое испытывал в течение долгих лет Маяковский, нося, как тяжкие вериги, проклятую, обидно незаслуженную бирку «попутчик». Но ее всерьез (а может быть, в глубине души и там — не всерьез) принимали только в центральных рапповских канцеляриях. Все, что было живым и мало-мальски, одаренным в советской пролетарской поэзии, считало за честь похвалу этого пламенного поэта-борца. И мы, ростовские, рапповские поэты в том числе. Только говорить это вслух, а особенно с трибуны, было не принято, а с точки зрения рапповской дисциплины — в высшей степени предосудительно и даже преступно.
Почти все наличествовавшие в тот вечер ростовские поэты вынесли на суд Маяковского по нескольку своих произведений. Я прочел отрывки из своей поэмы «Песня об английском табаке» и стихотворение «Отделком», то есть отделенный командир.
Об отрывках из моей поэмы Маяковский отозвался более чем прохладно (литературные реминисценции, книжность), а «Отделкома» похвалил. И дал мне путевку в жизнь, сказав: