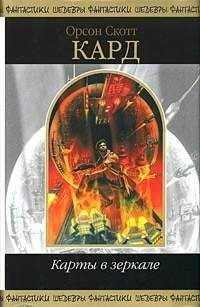Морис Одебер - Могила Греты Гарбо
Слуги, супруги Сигрид и Густав, жили на нижних этажах виллы и занимали длинную череду комнат, которую обставляли и украшали довольно причудливым образом. Часть собственного досуга Густав тратил на обследование складских помещений киностудий, откуда он выуживал пришедшие в негодность элементы декораций, чинил их и сооружал из них нечто в своем духе — так в одной комнате кровать с балдахином времен Людовика XIII соседствовала с венской люстрой и венецианским комодом. Его коллекция постоянно обновлялась согласно новым находкам, и если бы мадам захотела, она могла бы устроиться в шикарных апартаментах, однако она никогда не высказывала подобных желаний. Мне же пришлось смириться с этим увлечением Густава, хотя я старался умерить его строгим требованием стилистического единства — условие, обычно важное в архитектуре. К тому же скромные размеры комнат в башне не позволяли расставить там большое количество предметов мебели или громоздкую мебель, так как это сильно затруднило бы передвижение. Таким образом, декораторской страсти Густав мог предаваться лишь в моей комнате, и мне случалось просыпаться в обстановке времен Людовика XIV, а ложиться спать при Генрихе II; ни библиотека, ни конечно же лаборатория, где я проявлял негативы, не могли послужить ему достойной площадкой для воплощения идей.
Сигрид почти никогда не было видно, эта величественная женщина в расцвете сорока лет дни напролет проводила на кухне, где ей нечего было варить или тушить, так как питались мы совсем просто, даже скудно (не по причине экономии, а из диетических соображений). На кухне она вела долгие беседы на ломаном английском с двумя попугайчиками, убежденная — и все мои попытки возразить и блеснуть лингвистическими познаниями, которые обычно производили впечатление, здесь потерпели полный крах, — что говорливые пернатые, привезенные из Швеции, не переносят, когда с ними общаются на родном языке (если можно так выразиться).
Густав, комплекцией похожий на свою жену, вел себя совершенно иначе: бегал туда и обратно с озабоченным видом, хотя работы у него практически не было: вилла была почти полностью заброшена, запрещалось подрезать деревья в парке, к тому же мы никого не принимали. Изредка мы отправлялись на какой-нибудь большой праздник из тех, которые так любили устраивать в других домах, на эти parties[3], где на чужих лицах замечаешь ход времени, изношенность славы и морщины от разочарований (а иногда и от алкоголя, в котором утоплено отчаяние). Итак, никаких визитов, ни дружеских, ни соседских, даже если они от чистого сердца. Парадную дверь наглухо закрыли, буйная растительность заполонила подъездную аллею, которую когда-то, судя по рассказам, украшали процессии из роскошных лимузинов; шумное семейство ласточек свило гнездо под крышей на крыльце, а ленивые ужи небрежно отпугивали ящериц на каждой из трех террас. «Как же это грустно! — печалился время от времени Густав. — Вдруг месье сможет переубедить хозяйку?»
Месье обещал, ради того чтобы его оставили в покое, но даже и не пытался ничего предпринять. Состояние виллы волновало меня еще меньше, чем ее. С Густавом я соглашался только по одной причине: я никогда не испытывал восторга перед тем, что принято называть природой (это слово обычно произносится с некоторым трепетом), и нет ничего тоскливее, с моей точки зрения, чем пшеничное поле.
Штернберг[4] часто повторял: «Бог — демонстратор теней, и если он творит тень от дерева, то это не больше чем тень от тени. Чтобы убедиться в бессодержательности существующего, достаточно внимательно рассмотреть полотно художника: каждая форма разрушается и оказывается пятном, которое сначала напоминало по виду лес или строение». Он добавлял: «Я тоже работаю с тенями. Но я в этом признаюсь, а не задираю нос, как он». Тогда я спрашивал: «Правда?» Его лицо сморщивалось, превращаясь в полусмешную-полутрагическую маску, и он снова и снова объяснял мне: «Мы сейчас одни, и ты прекрасно знаешь, что для того чтобы выжить в этом мире, нужно выражаться предельно ясно».
Он приходил, только зная, что ее нет дома, — когда она уезжала на съемки или куда-нибудь еще, повинуясь внезапной прихоти. Почему он избегал ее? Я так и не сумел понять, даже в пьяном бреду. Он давал ложные ответы и резко обрывал разговор, заявляя, что пришел не ради того, чтобы заниматься психологией или метафизикой, но с намерением освежить мозг и повеселить сердце, разглядывая мою коллекцию. После чего мы обычно спускались в библиотеку, и я развязывал для него папки.
4Однажды вечером, после наступления сумерек, как раз когда ее не было дома, Джон Бэрримор позвонил в дверь. Не успел я задуматься о том, кто мог прийти в такой час, как Густав впустил его — или не сумел помешать войти (я в это время проявлял в лаборатории негативы, сделанные за последнюю неделю) — и поспешил сообщить мне, что пришел «некий господин», который «собирается помочиться».
В первое мгновение я решил, что во всем виноват сомнительный английский Густава, однако именно это и сказал на вид сумасбродный, по мнению Густава, господин и, очевидно, пьяный в стопку («в стельку», Густав!); все это («в чем вы сами сейчас убедитесь») я узнал, спускаясь в холл. И я действительно убедился: Джон Бэрримор собственной персоной сидел, развалившись в кресле у входа, высоко подняв голову и одну бровь — характерная черта, известная многим по его фильмам. Он встал мне навстречу в развязном приветствии, встряхнул воображаемой шевелюрой, а затем вновь рухнул, не удержавшись на ногах от сильной икоты.
Едва я произнес: «Месье…» — как он вновь вскочил, на этот раз более уверенно, и повелительно протянул руку в неопределенном направлении.
— Не составит ли для вас труда удалить прислугу, чтобы я мог беспрепятственно изложить причину столь позднего вторжения, в противном случае мне будет затруднительно раскрыть суть дела, так как это вопрос чести.
Я отпустил Густава, и Джон продолжил более громким голосом:
— Месье, вам известно, кто я такой, а я знаю, кто вы, и я хотел бы попросить вас не судить обо мне по жалкому паясничанию, которым я печально прославился на весь мир.
Я заверил Джона, что хоть и не считаю его роли в кино паясничанием (он поморщился и нетерпеливо отмахнулся в ответ), но бережно храню воспоминание о его нескольких блестящих театральных выступлениях.
— Театр! Ах, месье! Театр! — Его лицо окаменело, в то время как по телу пробежала какая-то медленная судорога, ладони, не спеша, как бы вслепую поднялись к самому лицу, на котором застыла блаженная улыбка. Он вновь уселся, бросив руки с притворной беспечностью, и уставился в пространство застывшим, бессмысленным взглядом; прошло несколько долгих секунд, прежде чем Джон спросил: — Не найдется ли у вас чего-нибудь тонизирующего, что могло бы поставить меня на ноги? — И добавил, когда я собрался налить ему бокал: — Могу ли я попросить бутылку целиком?
Он стал пить из горлышка, очень осторожно, даже изящно осушил бутылку и, когда наконец поднялся — хоть на щеках его синела многодневная щетина, костюм был пыльным и запачканным, спереди на пиджаке красовалось огромное пятно, а над ним с парадоксальной кокетливостью белел в верхнем кармашке чистенький платочек, на одной ноге была старая теннисная туфля, а на второй — носок, — так вот, когда он поднялся, то вновь обрел равновесие и непринужденность, и даже голос его теперь звучал глубоко и уверенно, несмотря на то что до этого он запинался на некоторых словах и путал слоги. Бэрримор склонился в церемонном поклоне.
— Позвольте поблагодарить вас, месье, за добрые слова. Я действительно был когда-то таким, как вы говорите. Возможно, это живет во мне и сейчас, но так глубоко… как воспоминание. Моя память — огромная библиотека, в которую я не осмеливаюсь заглядывать, так как не уверен, умею ли я еще читать. Им нужен лишь мой профиль… В лицо великому Джону Бэрримору никто не смотрит, у него больше нет лица. Только профили, два сросшихся профиля, как у плоских жестяных петухов на верхушках колоколен в старой Европе. — Он пристально взглянул на меня, поднял бровь и звонко закукарекал, чем вызвал появление в дверях встревоженного Густава. — Я петух, — заголосил Бэрримор специально для новоприбывшего и устремился к нему, взмахивая руками. — Я единственный петух, уникальный! Я король петухов!
Густав сбежал. Джон вернулся ко мне.
— Паяц — вы же видите!.. Они используют мужчину или женщину — да не важно кого… Собаку, лошадь — для них все сгодится. И вот, что они из них делают… Я пришел, чтобы помочиться на них в знак осуждения. Если вы позволите… — Он повернулся ко мне спиной, твердым шагом направился к лестнице, поднял ногу над первой ступенькой и… словно внезапная нерешительность овладела им. Он стоял, покачиваясь на одной ноге, время тянулось нескончаемо… Наконец он схватился за перила. — Я все же должен вам объяснить… Огромный дом, который вы освещаете своим присутствием и в котором, по обыкновению, помимо вас обитает еще один призрак, так на меня похожий, такой пустой и никчемный — да простит она мне эту наглость, но никто так не смеялся над ней, как я, часто до слез, — этот дом стоит на верхней точке проклятого города, города-шлюхи. Я говорю об этом не в метафорическом смысле, поскольку все, что касается шлюх, я знаю досконально. Башня виллы — крайняя точка, и в прежние времена, когда алкоголь еще не опустошал душу, а позволял видеть изнанку вещей, случалось мне проворно взбираться по лестнице на террасу, где я совокуплялся с милой подругой… Да, месье, мы совокуплялись, и, несмотря на жесткость камня, я чувствовал под собой нежность ее послушного тела, так не похожего на матрас. — Он повторил: — Так не похожего на матрас… — Потом Бэрримор тяжело опустился на ступеньки и закрыл глаза; я подумал, что он заснул, поддавшись опьянению, но его голос зазвучал вновь: — Они там, внизу, на дне… там, где им и место… им, варварам, кровавой мафии, котлу, в котором плавятся преступления… Я помочусь на них сверху, особенно на Вальтера Врангера… Они скажут вам: «Он пьет». Это правда, я пью, великий Джон Бэрримор пьет! Все эти годы, месье, он испытывал страшную жажду, и все ради того, чтобы забыться, чтобы наполнить обширную впадину, в которой когда-то была душа, бочку, распахнутую для любой существующей в мире жидкости, для всех виноградников Бургундии и Шампани и еще многих прекрасных и сочных стран, включая старую Шотландию с ее бочонками! Ну да, для любой жидкости, даже для одеколона! Во всем есть алкоголь! Зачем он пьет? Он же разрушает себя!.. Глупцы! Напротив, я созидаю себя! Я скапливаю, перегоняю, собираю, я раздуваю, распухаю, объедаюсь, я бурдюк, чан, переполненный мочевой пузырь! Столько лет я работал над величайшим творением, и вот день настал (даже если сейчас ночь), в который я совершу задуманное: с высоты башни обрушу на них водную массу, бездонное море, новый потоп, в котором не спасется ни один Ной и за который так дорого заплачено. Естественно, я имею в виду не деньги, а свою жизнь. Этот с таким трудом выношенный, вскормленный замысел я медленно, терпеливо и с достоинством донесу до вершины лестницы, до самой башни, потому что, вы ведь знаете, месье, лишь достоинство способно скрасить пошлость производимого действия, и утоплю их в бесконечном потоке своего презрения. — Счастливая, почти детская улыбка осветила его лицо, и он попытался, правда безуспешно, подняться. Я направился к нему, но он остановил меня. — МОЕ величайшее творение! — Джон нащупал перила и схватился за них. Я видел, как сжались его пальцы, напряглись мускулы, покраснела кожа, и медленно, с усилием он поднялся (его лицо при этом сохраняло умиротворенное и счастливое выражение), подмигнул, как будто все это было шуткой, и медленно произнес по-французски: — Лучше подняться невысоко, но без посторонней помощи… Цитата из французской пьесы…