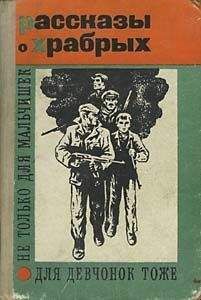Анатолий Елисеев - Страна Эмиграция
И все же началось это значительно раньше.
В «ГОРОДКЕ» я уже писал, когда и как сломался мой абсолютный патриотизм. Не могу так же точно датировать период, когда в мою голову впервые пришла мысль уехать, сбежать, короче изменить Родине, сейчас могу высказать только одну эротическо-еретическую мысль: измена предполагает интимно-тесные отношения и как минимум любовь, любовь к великой и могучей стране Советов с моей стороны была, во-всяком случае вначале, в детском возрасте, но мне кажется, что была она абсолютно безответная. А без любви не может быть измены, развод — это не измена. С изуверством собственницы Россия не хотела отдавать меня счастливой сопернице — загранице — без крови (моей разумеется). «Сам не ам и вам не дам!» — вот вам и вся любовь.
Так вот, помню только, что идея измены овладела мной в нежном подростковом возрасте, во всяком случае до августа 1961. Что связано именно с этой датой? — Строительство Берлинской стены.
Я мечтал, что в один прекрасный день, став взрослым, я поеду в туристическую поездку в ГДР. Оказавшись в Берлине, сяду в метро, перееду в Западный сектор (это было возможно только до строительных работ-61), а дальше — все будет так, как описывали советские газеты путь изменников и предателей: политическое убежище, работа на радиостанции «Свобода» или «Голос Америки», клевета на оставленную страну Советов, «… деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин..» и, конечно, ностальгия, тоска по Родине. Для меня ностальгия была совершенно необходимым элементом эмиграции и представить себя НЕ проливающим скупые мужские слезы в ресторане «Кавказ», когда хор выводит «Калинку» или «Подмосковные вечера», я просто не мог.
Конечно важную роль сыграли рассказы бабушки и дедушки о парижских эмигрантах. После войны они шесть лет прожили в Париже, где дедушка был комендантом советского посольства. Вот один из их рассказов, как он мне запомнился.
Советское посольство располагалось на парижской улице *** (названия не помню, хотя бабушка его упоминала, можете справиться у Эренбурга см. книгу «Люди. Годы. Жизнь» у него там наверняка есть адрес). Комендантская с приемной находились, если я ничего не перепутал, в отдельностоящем здании, и туда приходили парижане и русские французы для подачи заявлений, получения виз и т. д. Некоторые, рассказывала бабушка, приходили просто повстречаться с соотечественниками, поговорить… Среди посещавших посольство была например, княжеская чета Юсуповых. Внутрь здания всегда заходила Ирина, а Феликс, высокий, худощавый старик терпеливо ожидал на улице. Ирина расспрашивала о Москве, о родовом имении, живо интересовалась жизнью в России. Бабушка говорила, что приходили они достаточно часто, так же часто приходила и другая чета о которой собственно и пойдет рассказ.
Муж и жена, пожилые, тихие. Он — священник, оставивший Россию в начале гражданской войны. По моему в середине 47 года, когда вышло определенное послабление для эмигрантов, они подали заявление, или скорее прошение, о возвращении на родину. Заявление начало свой путь по инстанциям, а путь был бесконечно долгим. По рассказам, проверяли всё — участвовал ли в боевых действиях на стороне Антонова, Каледина, Корнилова, Махно, Мамонтова и т. д и т. п., проживал ли на территориях временно оккупированной англичанами, американцами, немцами и т. д и т. п. Проверка тянулась больше года и чуть ли не каждый день пожилая пара приходила к воротам посольства, чтобы услышать «ничем не можем помочь, приходите…» уж не знаю, что им говорили — завтра, на следующей неделе, в следующем месяце, но настал день, когда разрешение было получено. И не только разрешение на получение паспорта, но и сообщение из Священного Синода или Патриаршии (я до сих пор не знаю, что в России во главе церкви), что этому попику предоставлен приход, куда ему и надлежит выехать. Пикантность ситуации заключалась в том, что приход этот располагался где-то в Архангельской губернии, а за 30 лет проведенных в Париже священнослужитель и без того не отличавшийся крепким здоровьем, окончательно адаптировался к французскому щадящему климату и ехать на север России, причем зимой (срок действия визы был конечно ограничен) было равносильно самоубийству. И каким же героем тогда выглядел в моих глазах этот бедный служитель культа, который конечно же поехал и умер в первую-же зиму, как написала бабушке его вдова.
То, что я пишу может показаться совершенно абсурдным — мечтать об измене и восторгаться теми, кто возвращался на верную гибель. Мне это самому казалось не совсем нормальным, пока я не прочёл строки Набокова.
«Но сердце, как бы ты хотело,
Чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
И весь в черемухе овраг»
Тогда я конечно не знал Набокова, но предвидел прочитанное позже. Он знал тоску по утраченному — я её представлял. Я думаю, что если бы тогда чудом я оказался на чужбине я бы подписался под каждым словом писателя.
Я ещё любил Россию. Во мне было любопытство, было желание попробовать соблазны заграницы, но счеты с Родиной не сводились. Был зуд путешественника, желание увидеть другие страны, а свобода путешествовать тогда значило уехать, навсегда покинуть любимую страну.
Я ещё любил, но хотел уйти и страдать — эта достоевщина тогда зрела во мне пышным цветом.
Понадобились долгие годы и Россия окончательно добилась статуса мачехи.
Она делала это планомерно, постоянно и навязчиво. Она отнимала у меня то, за что я мог ее любить, она старалась повернуться ко мне своими самыми непривлекательными лицами и при этом утверждала, что ее, как мать, следует любить всякую, грязную и неопрятную, пьяную и грубую, глупую и жестокую…
Но кажется настало время вопроса — Что же позвало в дорогу нашу семью?
Глава 2
Опыт кухонного диссидента
Мы не бежали от антисемитизма — моя жена, и тем более дети-полукровки, в чьих глазах «синела Русь», вряд ли заинтересовали бы перестроечных охотнорядцев или блюстителей генетической «памяти».
И всё же мы уехали. Почему?
Простой вопрос — сложный ответ.
Сразу скажу — я не принадлежал к активным диссидентам и, даже став старше, и казалось умнее, ограничивался брюзжанием на кухне. Я прошёл обычную дорогу советского школьника — во-время был принят в пионеры и на каких-то порах мне это всё даже нравилось. Нравился красный галстук, особенно почему-то я любил утреннюю утюжку перед школой. Были свои таинства в этом процессе, когда мокрый шёлковый лоскут — а для настоящего эффекта галстук перед обработкой утюгом нужно было намочить — превращался в яркий хрустящий треугольник, который так приятно обнимал шею. Довольно скоро эта атрибутика надоела, галстук куда-то всё время исчезал, к тому же он потерял свой первозданно нарядный вид, обтрепался, покрылся чернильными пятнами, помню одно время я вместо галстука повязывал шею маминой бордовой косынкой. Потом по инерции вступил в комсомол — все вступали… Какое-то время был даже комсоргом в НИИ после окончания школы. Покинул ВЛКСМ не по идейным соображением, а по возрасту, но без всякого сожаления. Я рассматривал всё это, как необходимую и довольно скучную игру, в которую играли все мои сверстники. Все? Нет, сейчас я хочу вспомнить тех, кто не принимал и имел мужество отказаться от того, что мне казалось нормальным стилем жизни.
Боря Е*** — религиозный сектант, не помню какой секты, с которым я некоторое время приятельствовал в моем родном Орехове. Он мне казался загадкой — как можно верить в эту ерунду и ставить на карту то, что я считал единственно возможным способом уцелеть в не слишком приветливом обществе?
Но он нравился мне своей непохожестью на других, он не курил не пил, сторонился того, что составляло главную цель моего досуга (см. Городок — «Кадры решают все»), и в тоже время я чувствовал в нем такой стальной и несгибаемый характер, которому я мог только тихо завидовать, так как себя считал скучным и ничем не интересным середнячком.
Боре грозили серьезные осложнения — его возраст уже подходил для армии, куда вовсе не желал попасть по идейно-религиозным соображениям — и поэтому твердо решил пострадать за веру, но в армию не идти. Какое-то время казалось ему повезло — его освободили «по зрению», но он чувствовал, что это только временная передышка и в военкомате, скоро или нет за него возьмутся всерьез (он никогда и ни от кого не скрывал своей веры и своего отношения к институтам власти).
Гораздо позже в моей жизни промелькнула другая и еще более невероятная личность — назовем этого человека Фредди — так он не был похож на рядового жителя страны Советов.
Не помню, кто впервые ввёл его в мой дом — это было время, когда я обрел полную свободу — родители были в очередной заграничной командировке, бабушка на всё лето с гаком уехала к сестре в Ленинград.