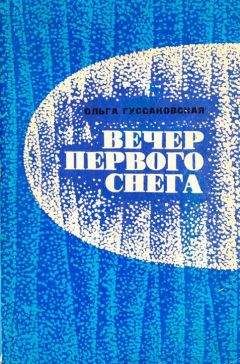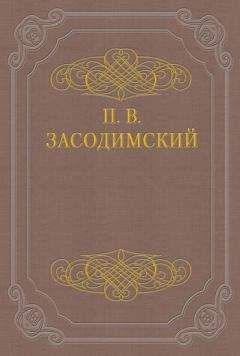Алекс Тарн - Ню
Вот и с Сергеем Владимировичем случилось что-то похожее. Хотя… Есть тут определенный перехлест. Все-таки чересчур все это мрачно… война там или молния… Ну какая может быть война в нью-йоркском музее? Какие пули? Какие молнии с грозами… хотя бы даже и в начале мая? Никто, понятное дело, в Сергея Владимировича не стрелял, и о смерти речи не шло даже в очень большом приближении, так что… гм… впрочем, это как посмотреть… да… непросто это все, неоднозначно. Ведь если приглядеться, то в определенном смысле он, можно сказать… как бы это помягче… да ладно, чего там!.. умер он, Сергей Владимирович, вот что. Умер. Хотя и не умер. Вот ведь какая загогулина.
Так или иначе, пройдя по инерции несколько залов, он притормозил, постоял в некотором недоумении и только потом вернулся к Ней. Возвращался Сергей Владимирович уже вполне целеустремленно; выяснилось, что в мозгу его странным образом отпечаталась вся картина — и разделенный перегородками зал, и скамейка, и тусклые пятна полотен на стенах, и даже пара очкастых низкорослых азиатов, суетливо фотографирующих друг друга в лучах Ее неземного сияния. Подойдя к поперечному стенду, справа за которым, как он точно знал, находилась Она, Сергей Владимирович остановился и глубоко вздохнул, как перед погружением.
Отчего-то ему было совершенно ясно, что там, справа за перегородкой, его ждет совсем иной мир, иная жизнь, возможно — прекрасная и чарующая, но непоправимо чуждая всему тому, чем он жил и кем был прежде, а потому наверняка опасная. Не оттого ли и остановился, что опасность почувствовал, испугался? Нет, навряд ли… Вслушиваясь в себя, он не находил никакого страха, только непонятный восторг, копошащийся в области сердца, восторг и более ничего, неимоверную радость от предстоящей встречи. Вот ведь какая странность! Прежний, известный ему Сергей Владимирович наверняка бы струсил… да что там струсил — просто не вернулся бы, бежал бы без оглядки от проклятого ведьмовства. А этот, новый, ни капельки не боялся, а напротив, стоял себе, как влюбленный дурак, перед стендом с какой-то блеклой мазней, кохая и оглаживая растущее в душе ожидание счастья.
Надо было всего-то сделать еще один шаг, повернуть за угол, и тогда… И тогда все его старое, прежнее, неправильное бытие, и так уже безнадежно растрескавшееся и съежившееся во время обратной дороги сюда, к этому стенду, окончательно рассыпется, растает в Ее слепящих лучах, подобно грязным ошметкам мартовского снега. Сергей Владимирович радостно улыбнулся и шагнул.
Она лежала перед его восхищенным взором, напряженно раскинувшись на темно-малиновом покрывале с разводами, покорно повторявшими упругие очертания бедер. Жалкая белизна подушки и скомканной простыни терялась в теплом сиянии кожи, нежность прозрачными ручьями струилась с округлых грудей в наклонную долину живота, мягкие линии ягодиц плавно перетекали в сильную пружину спины… вся Она словно шевелилась и двигалась, дышала и жила на внешне неподвижной, плоской поверхности полотна.
Закинутые за голову руки обрамляли удлиненный овал лица с жарким маленьким ртом… приоткрытые губы, ждущие других губ… горящие возбужденным румянцем щеки… разлетные крылья бровей… беспросветный морок необъяснимо манящего, откровенного более чем сама Ее нагота взгляда… загулявшая прядь волос… стройная шея… упрямый подбородок, прижавшийся к бесстыдно распахнутой подмышке… и снова — нежный трепет грудей со вздыбившимися сосками, пологий склон живота, тяжелая статика бедер…
Сначала Сергей Владимирович просто стоял и смотрел на Нее, а потом устал и сел на скамейку. Скамейка располагалась неудобно, торцом, так что шея у него затекала; зато можно было дать отдых ногам. Мешала бестолковая толпа, непрерывно снующая между ним и Нею, но со временем людей стало меньше, а потом они и вовсе исчезли. Впрочем, радость по этому поводу оказалась преждевременной — просто музей закрывался, и всех выгоняли. Сергей Владимирович послушно кивнул улыбающемуся служителю и напоследок подошел к Ней поближе — прочитать табличку.
«Амедео Модиглиани»… Ага… Это, видимо, имя художника. С названием было сложнее. Сергей Владимирович задумчиво шел к выходу, перебирая варианты перевода. «Ньюд» — это обнаженная, это ясно. Но при чем тут «реклайнинг»? Облокотившаяся? Откинувшаяся? Развалившаяся?.. Чушь какая-то. Все это решительно для Нее не подходило. Может быть, «доверившаяся»? Это хоть как-то, худо-бедно… но тоже, если разобраться — не ах. Все-таки экая лажа все эти музеи! Даже правильной таблички привесить не умеют.
Магазин на выходе был еще открыт. Сергей Владимирович зашел и сразу увидел Ее. Черный омут взгляда и сияющие бедра смотрели на него с футболок и с открыток, с картинок побольше и с плакатов в натуральную величину, даже с крошечных брелков для ключей и с кухонных рукавичек. Он взял два больших плаката по шестнадцать долларов и еще несколько, поменьше, но в рамках.
«Гуд чойс, — одобрила его продавщица. — Хороший выбор! Модильяни! Ню! Гуд чойс!»
Ню. Это звучало ощутимо лучше, чем грубое английское Ньюд. Ню… Ню — нежная моя девочка, южный берег души моей…
Улыбающийся город встретил его на лестнице теплыми ласковыми сумерками. «Ну что? — говорил он всем своим видом. — Я ж тебя предупреждал, что случится что-нибудь в этом духе… зачем же было упрямиться? Разве сейчас тебе плохо? Где теперь вся твоя прежняя занудная и пустая житуха? Издохла, гадина… да и хрен с ней, с паскудой! Ты у нас теперь как новенький… живи и радуйся.»
Сергей Владимирович ухмыльнулся, станцевал какое-то немыслимое па и легким шагом вступил в свою новогоднюю, майскую, карнавальную жизнь.
* * *Я его сразу заприметила, хотите — верьте, хотите — нет. У меня на это дело глаз наметанный. Ну оно и понятно. Сколько народу каждый день вокруг крутится. Как-то раз даже посчитать пробовала… да куда там — сбилась. Я вообще в математике не очень, не то что эта сучка из Прадо. Ну и черт с ней, мне не жалко — подумаешь! Только зря она, стерва, задается. Я, хоть и раскручена намного меньше ейного, но все при всем имею. А у ней красота кукольная какая-то, ненастоящая. И грудь силиконовая. Моди такого пупсика рисовать не стал бы, это я вам точно скажу. Он бы на эту дуру даже не взглянул, разве что по пьяни. Ага. Разве что по очень, очень большой пьяни. Чьи-чьи, а уж Модины вкусы мне известны, будьте покойны.
Вся ейная популярность от одной только большой раскрутки, вот что. У меня вообще такое чувство, что этот Гойя в бабах не больно-то и понимал. Портреты хороши, ничего не скажу… но это ж портреты, другой жанр. Кто понимал, так это Диего. Хуже, конечно, чем Моди, но тоже ничего. Я, если хотите знать, после Моди только его и уважаю. И с лондонской его зазнобой корешу. А все почему? Потому что мы с ней, с Венечкой, примерно на одном и том же, недосягаемом уровне. Ага. Высшая лига. Мы друг дружку даже в некотором роде дополняем, потому как я — передом, а она — задом. Оттого-то, наверное, судьба нас так и раскидала: я тут, в Метрополитен, она — там, в Галерее…
А представить себе, что мы на соседних стенках висим… Ну ваще… Это ж землетрясение какое-то, как есть землетрясение, право слово! Тут тебе всё — все смыслы, все азы — и сзаду, и спереду, откуда ни глянь! Страсти-мордасти… гром и молния. Вот и посудите — есть такой шанс, что нас когда-нибудь вместе соберут? Аа-а-а… то-то же. Так и висим — порознь, в компании всяких тяжеловесных тициановских коров да рубенсовских свиноматок. Хотя, если хотите знать мое личное мнение, эти мясопотамки еще ничего… у них хоть видать — где сиська, где писька… Потому как нынешние девки — это ваще застрел — ни черта не разберешь, одни кружки и квадраты на фоне меховых унитазов. Так пусть уж лучше Рубенс и Тициан с ихним мясокомбинатом… Ага…
Только время ведь не обманешь. Время — это, знаете, такая штука… коническая такая штука, воронкообразная. Хлюп… и затянуло… была — и нету. Сначала унитазы затягивает, с кружками да квадратами, а там и мясокомбинат следом — хлю-ю-юп… хлю-ю-юп… и поминай как звали. Мы ведь картины, у нас свет отраженный, как у Луны. Нам человеческая душа нужна, натуральное дыхание, живой стук сердца, ага. А без всего этого мы тускнеем, трескаемся, темнеем и хлю-ю-юп — в воронку. Венечка даже говорит, что мы вампиры. Что мы, мол, у людей душу высасываем, тем и живем.
Я ей говорю: «Какая же ты вампирша, если в зеркале отражаешься?» У ней там зеркальце в руках, если кто не видел. А она мне: «Дура ты, Нюрка, дура! Того не понимаешь, что зеркало-то нарисованное. А в нарисованном я тебе какое угодно отражение сделаю…» Во как! Может, и права она, Венька. Лицо-то там, в зеркале какое-то странное… не ейное лицо, нет, не ейное. Хотя самого-то Вениного личика никто и не видал никогда, кроме Диего, конечно, но Диего не в счет. В общем, не знаю. Да и какая разница? Главное, что баба она клевая и подруга хорошая, ага. Вон, моей левой ягодицы тоже никто не видал и пяток. Ну и что?