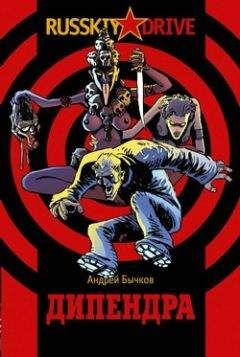Михаил Берг - Черновик исповеди. Черновик романа
Был забавный случай в Коктебеле. Утром он отправился на рынок покупать помидоры. В кошельке ― один четвертак с мелочью. Разбавленная синька неба, слоеный воздух с прожилками запахов свежей зелени, терпкой полыни. Пыльная дорога в гору. Он купил помидоры у одного чучмека. На одном подносе торговца ― помидоры, на другом ― персики. Чучмек шутил, давая сдачу, зачем-то сложил пополам пачку трехрублевок, потом, держа в своих руках, пересчитал. Смотри, дорогой: раз, два, три… восемь. Порядок? Да, восемь трехрублевок. Он не следил за ним. Ему всегда казалось, что тот, кто видит его, понимает, что его обманывать нельзя. Он сильней, он большой, он улыбается, доверяя любому именно потому, что уверен ― каждому видно: с ним шутить хуево. Взял, не считая, пачку трешек, смяв, положил в кошелек. Собираясь на пляж (читать и купаться в первой Сердоликовой бухте, а если хватит сил, то еще дальше, Карадагом, через перевал), жена сказала: кошелек не потерял, тебя не обсчитали? Меня не обсчитывают, на. Она с женской недоверчивостью открыла кошелек, начала считать: три, шесть, девять… а где еще две трешки? Как ― где? Взял, пересчитал ― Господи, он меня обманул. Спокойно, я прошу тебя ― будь спокоен, кричала вслед жена. Он шел, почти бежал. Было не жалко денег, Бог с ними, хотя лишних денег никогда не водилось, но ― обманул, унизил, глядя в глаза. Он отчетливо, как нарисованные, помнил два подноса, слева и справа от весов. И знал, что подойдет и без слов с двух сторон наденет эти подносы чучмеку на голову, размажет по харе помидоры и персики и многое еще успеет сделать, пока не оттащат. Рынок, вот и торговец. Чучмек увидел его метров за десять, все понял по глазам, радостно замахал руками: «Иды, иды сюда, дорогой, ты дэньги забыл. Иды, вот дэньги, вот!» А когда он молча забрал, уже в спину, лукаво улыбнулся: «Я же гаварил тэбэ, считай!»
Я не убил его, не нашел; жене наложили восемь швов, потом месяц вставляли зубы; и он решил завести собаку, чтобы охраняла жену тогда, когда его нет.
Эту собаку любили все его друзья, которые приходили к ним по нескольку раз в неделю, оставались ночевать, им стелили на полу (кроватей не хватало), они все спали в одной комнате, собака лежала в ногах. Ее слишком любили, она так и не стала злой, хотя была огромным черным ризеном ― якобы необычайно опасный, неукротимый зверь: у них она превратилась в ласкового теленка, после первого припадка лая облизывающего каждому гостю лицо, руки, шею; она вставала и клала огромные лапы на плечи, как мягкая черная тень.
Друзья были пробующими перо поэтами и писателями, просто приятели молодости, которым было интересно в диссидентском доме. Как приятно писать банальные вещи, прекрасно зная, что означаемое и означающее не совпадают, в минусе то, что как раз и должно остаться между строк. Банальное ― сеть со слишком большими ячейками, в них застревает только рыба крупная и старая, неповоротливая, но что может быть банальней молодости с ее подлинным интересом друг к другу, невозможностью наговориться, нехваткой времени и уверенностью, что впереди у всех (а если не у всех, то у меня-то точно) мерцает, переливаясь в свете волшебных юпитеров, прекрасное будущее?
Где вы теперь, друзья юности? Нет ни одного. Все растворились за магической зеркальной амальгамой, строго и точно отделившей жизнь с надеждой от жизни без нее. И какой бы ссорой ни оборачивался этот невидимый глазу переход, любой из вас придет, вернется на миг, только позови. Но ничего не будет, друг сядет на край стула, между нами будет пропасть разно прожитой жизни, в которой ― и это прежде всего ― не оказалось места для прекрасного будущего, вакансия занята другим. И о чем тогда говорить? Все в разной степени успешны, все заняты и озабочены собой, и иногда кажется, что вас не было и раньше, что вы ― воздушные шары, некогда надутые прекраснодушием и воображением, а теперь ― нет, не рваные гондоны, а шарики после праздника, что висят на ниточке сморщенные, жеваные и никому не нужные. И нет слов, языка, забыт пароль дружбы. Нам скучно друг с другом, потому что скучно с собой. И только смерть в состоянии собрать нас вместе на миг для своих рутинных и привычных ритуалов.
Ровно двадцать лет назад он написал первое слово, предназначенное для того, чтобы впоследствии быть прочитанным неведомым читателем. Не рассказ и не дневник, а нечто среднее, промежуточное по жанру. Умер его дед ― футболист, артиллерийский офицер, его ордена до сих пор валяются где-то в нижнем ящике шведского письменного стола вперемешку с кнопками, старыми письмами, почему-то велосипедной камерой и прочим, до чего руки никогда не доходят. Первая смерть близкого и любимого человека. Гроб деда с неровно прибитой красной тряпкой, торчащими щепками и блестящими шляпками гвоздей, а рядом какой-то странно будничный, обыденный разговор вокруг. Он нес своего деда в гробу, и ему хотелось, чтоб гроб был тяжелый, чтобы он вмял его в землю, подавил своей тяжестью, а гроб был оскорбительно легок. Как и те разговоры близких, которые, давая себе передышку, уже устали горевать и просто заполняли словами промежутки в церемониале, как чтец во время концерта успокаивает публику перед грядущим номером заезжего виртуоза. А он хотел сплошного, безразмерного горя, конца жизни, хотел занавеса, тяжелого и торжественного, словно театральный плюш. И был ошеломлен не столько смертью, сколько ее обыденностью.
Всю первую половину жизни он боялся смерти, объясняя это постыдное обстоятельство тем, что боится не успеть сделать то, что должен. Боялся пресной, разреженной жизни, вялотекущего времени, ему было хорошо, только когда он работал, а дальше с убывающей гаммой радости: писал, читал, говорил. Он не хотел жить, он хотел спастись от смерти, бесследного исчезновения по формуле Карла Моора ― бессмысленного существования, уверенный, что творчество спасает. А оно не спасает. Я должен был догадаться раньше, вспомнив то гулкое, как эхо в подворотне, чувство опустошения, которое, точно сырость, проникало во все поры души, только я кончал работу. Работа не спасает, Господи, не спасает ― она лишь местная анестезия.
Он отчетливо, с шелушащимися, как обгоревшая кожа, подробностями, помнил, как работал над своим третьим романом. Присутствие суфлера порой было настолько реальным, что рождало ощущение соавторства, школьной диктовки, нужно было только точнее расслышать слово. И вздох недовольства, если слово оказывалось неточным. По пальцам он мог пересчитать эпизоды, детали, отступления, даже отрывки фраз, которые дописывал сам, в инерции смутного движения от припадка удушья к роскошеству вдоха. Ты соблазнил меня этим романом. И ему показалось, что он научился жить. Нельзя ни на кого обижаться, показалось, расслышал он. Никто ни в чем не виноват, кроме тебя самого. Настоящая близость, когда хочется еще теснее, ближе. И ему стало сниться, что он наконец выговорил самые трудные слова молитвы. Ему захотелось унизить себя, свою гордыню, прийти в Лавру, поцеловать заплеванный пол, заплакать. Он, как радиоприемник, был настроен на одну волну, ведь Бог ― это очень просто, это и есть оки-токи, переговор с небесной радиостанцией, и разница только в рельефе местности: здесь надо ловить на телескопическую антенну, там ― на спутниковую, а где-то она в виде креста или полумесяца. Ему оставалось чуть-чуть. Один шаг. Совсем немного. Так хотелось смирения, покорности ― небу, судьбе, жизни. Он ждал только какого-то толчка, невидимого намека, случая, в конце концов, какого-нибудь повода. Не хотелось идти ради себя, казалось, будет лучше, если он будет просить не себе, а кому-то. Заболеет мать, жена ― он придет, чтобы раствориться, рассеяться, изойти в ничто. Он готов был отдать все, за исключением дара — повелителя слов, покровителя мысли. Он так гордился этим даром, и ничего не мог с этим поделать, хотя знал, что не лучше любого вора-цыгана или подлеца-коммуниста. Но, Господи, ведь это ты сделал меня ― нет, не просто рассудочным и всегда ставящим мысль впереди чувства, не только с восторгом принимающим процесс рождения мысли, которая, как шар возле лузы, поколебавшись, побившись почти незаметно о края, с легким тремоло обретала форму; но и радующимся тому, как мысль разъедает, разбирает на части чувство, человека, жизнь.
Он попал в Лавру года через три-четыре, может, пять. Из воцерковления ничего не вышло; он подошел близко, добрался почти до самого верха, но недотопал, недотянулся самую малость, а потом медленно, медленно, но уже неуклонно стал спускаться. Не падал, нет. Просто церковь ― не для всех, кто-то молится в лесу, кто-то идя по воздушному мосту между сейчас и тем, чего еще нет, и вот проступают робкие штрихи, очертания, пульсирует контур и… Скажем так, ему, очевидно, придется ограничиться тем, что он получал во время писания. У других и этого не было.
Он поднимался по эскалатору метро на площади А.Невского, думая о том, что другими называется не о чем, а на самом деле является чем-то похожим на слоеный пирог трясины; один неосторожный шаг ― провалился глубже, еще глубже, потом вроде выбрался на покрытую потрескавшейся корочкой поверхность, чтобы следующее движение ноги заставило все тело ухнуть по горло во что-то засасывающее и хлюпающее теперь навсегда. И неожиданно, подняв голову, увидел ее. Милое, неясно-торопливо очерченное лицо, стройная фигурка, какая-то призывная грация, будто в проеме дверей, которые со скрипом качнулись на ржавых петлях, увидел промельк полуодетой красавицы. Они встретились взглядами, и он как бы попугал ее, как делал иногда, желая обратить внимание: расширил глаза, словно отдавая должное ее прелести, скорчил понимающую гримасу, усмехнулся. Глупость ― она улыбнулась в ответ, и вдруг ему, чего уже не было давно, захотелось нырнуть в женскую глубину; какая-то истома и жалость к себе, к своему одиночеству легли на одну из нижних ступенек души, одновременно открывая вид на всю лестницу ― какая прелесть подняться по ней вот с этой незнакомой красавицей, а там, наверху, сказать ей: я хочу не тебя, а хочу с тобой говорить.