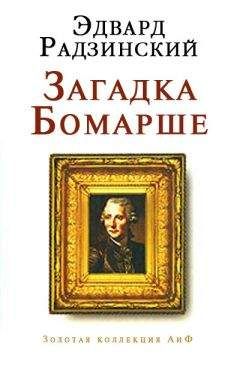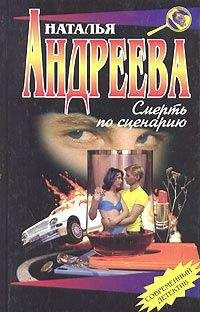Наталья Алексютина - Исповедь рецензента
Моя дорога домой пролегала через электричку. А она, как обычно, в субботний день была набита людьми. На одной из станций в вагон вошли и начали ждать тишины молодой человек с гитарой и девушка. (Может быть, мелькнула у меня изумленная мысль, в этот необыкновенный день они споют романс на пушкинские строки?) Однако продемонстрировать свое искусство им не удалось. Вдруг нагрянули в вагон и, надвинулись на нас, нависли над молодым человеком с гитарой неизвестно откуда взявшиеся пятеро верзил. Пьяных, грязных и грубых. Один из них, с самым отвратительным обликом: бритый, мелкоглазый, с «картофельным носом» (Как все-таки нелицеприятно зло!) стал заказывать «душевный», блатной репертуар. Молодой человек тихо обещал. Девушка молчала, сцепив зубы. А бритый всё беспардонно хватал музыканта за грудь и изрыгал хриплые и бессмысленные угрозы. Их суть: он — участник (?) чеченской войны, «в гробу видал сопливые песенки», и, если они зазвучат, гитара разобьется «о тупую башку исполнителя».
Наглотавшись нецензурщины, народ в вагоне, наконец, издал какое-то шипение, а мужчина лет пятидесяти крикнул, привстав: «Пошел ты со своей Чечней!» Брань стала оглушительной, и… завязалась драка. Подробности остались за пределами видимости, так как свалка стремительно укатилась в тамбур. Запомнилось другое. Вагон был тесно набит обывателями, половина из которых — сильная. Всё молодые, крепкие мужчины да кряжистые пожилые люди, — и ни один не остановил пьяного хама! Ребёнок, мальчик-подросток в страхе вскрикнул. Еще несколько таких же глядели расширенными глазами на бурлящий тамбур. Остальные — боялись и смотреть. Какой пример подавали они мальчикам?
Не знаю, что стало с воином-одиночкой. Пятеро же вернулись в вагон, и было гадостно наблюдать, как «чеченец» брал у старого продавца сливочные сырки, приговаривая: «Ну, что ты жмешься? Я же не барыга какой — я же с Чечни, морда твоя зажравшаяся». И старый продавец угодливо совал в разбитые руки нехитрый свой товар — бесплатно. Тоже боялся.
С двумя прямо противоположными впечатлениями — за один-то день — психика наша, конечно, может справиться. Можно сначала пережить благоговейное впечатление от добротных ученических конторок, уютных светильников длинного и мирного коридора, где в комнатах 14 и 13, если затаить дыхание, почудится легкий шепоток Саши Пушкина и Вани Пущина.
Можно заставить себя забыть и звериный оскал современника, и трусливые взоры мужчин, в которых проглядывало самодовольное «не меня, не со мной, и Слава Богу». Но вот незадача: последних картинок перед глазами все больше и больше! XX век и начало XXI оказались неистощимыми для них! И тяжко классике с ними бороться!
Не потому трудно, что иссякает кладовая нравственности: там ресурсов еще предостаточно. А потому, что на вопросы современности хочется найти и современный ответ: что делать, как жить в затянувшемся мраке. Так хочется заглянуть в современную нам литературу, в сегодняшнюю книгу и найти там готовое решение! Прочесть, что же считает важным глашатай истины — писатель! Как с его помощью увернуться нам от глыбы распада личности, и даже целой страны! Глыбы, что подминает под себя и младенца, и старца!
Но — позвольте, почему я ищу поддержку в книге?! Потому что чувствую: мир, созданный авторским и моим, читательским, воображением мог бы отыскать в незнакомой реальности спасительные черты, отвлечь от набившей оскомину, грустной узнаваемости, выудить из подсознания то, в чем я хочу признаться себе и миру. Книга — мой творческий путь, мой источник созидания. И меня самой и мира вокруг. Но так думается только в дни хорошего настроения. А в дни плохого — книга меня… пугает.
Современной русской литературе не свойственно одно чувство — то, в котором я остро сегодня нуждаюсь, чувство любви. Непосредственной и неограниченной. Любви к земле, небу, ребенку, матери, отцу, дому. Любви к слову и читателю. Она с упоением перемалывает сюжеты мрачной действительности. Вроде той, что мы видели в электричке. Или же дробит, ломает, расчленяет действительность и насилует героев. А, в общем, нас всех, читателей. Современная русская проза мало чем отличается от современного российского телевидения, фотографирующего самые мрачные эпизоды жизни. Она в позорном сговоре с ним. Она извращает наши духовные ценности, доставшиеся нам от предков. Она предает наше юное поколение, не позволяя ему усваивать эти ценности.
Печально, что по этому же пути идет женское перо, современная нам женская проза. В России появилось немало женщин-романисток. Но — увы! — с перебитым материнским инстинктом защиты детей и подростков.
Не хочется углубляться в подробности сюжетных событий расплодившихся книг. В лучшем случае дамы-писательницы занимают позицию «авторского невмешательства» в наши реалии. Это настораживает. Другие своей несомненной одаренностью приказывают читателям: «Жуй и глотай! А то, что я выдаю на гора, на самом деле продукт коллективного разума — моего издательства. И эта позиция — моё личное дело, не твоё, любезный читатель!»
Так и хочется возразить: «Госпожи-литераторши, не выстраданное — не впечатляет! И дело не в том, что я хочу призывать вас всех к автобиографической прозе. А — в вашем отношении к читателю. Как иначе расценить изобилие в ваших романах и повестях пошло-постельных сцен, диалогов на уровне «низа живота»? Да и само ваше слово — блеклое, словно выхваченное из чьей-то утомительно скучной тусовки?» Только как неуважение к нам, к читателям.
Думаю, что современная русская проза избегает добра по понятным причинам. На него расходуется гораздо больше душевных сил, нежели на изображение зла.
Она, молодая русская проза, тоже выпестована экранными картинками, где в воскресной передаче «Живая природа» со смачными подробными комментариями, с разных ракурсов показывается гибель детеныша горбатого кита. Как долго длится этот сюжет! Как долго бьется за китёнка его мать, в окружении молчаливых касаток! Как долго пытается она спасти своего ребенка! И я успеваю задохнуться от сознания, что кто-то равнодушно долго ведет этот кадр, призванный утвердить в нашем народе: таковы, де, законы природы! Выживает сильнейший! Что тут поделать?
Попытка — вернуть в сегодняшнюю литературу утерянные идеалы нашего человеческого (не-звериного!) сообщества встретилась мне пока лишь единожды. В книге Лидии Сычевой «Предчувствие» (Москва, МГО СП России, 2001). Лишь там послышался умиротворяющий шелест тополей, негромкий скрип родного крыльца да, наконец, обрело нежный, вкусный аромат художественное слово. В толчее произведений, все больше напоминающих руководство по борьбе с ближними, «Предчувствие» противопоставило разрушению — любовь. И не ошиблось. Только ей под силу справиться с ужасающим заблуждением, что зло — обворожительно.
Искренностью, на которую теперь неспособно большинство новоявленных авторов, подкупила меня книга Маргариты Шараповой «Пугающие космические сны» (Москва, Независимое издательство «Пик», 2000). Сквозь четкий, без лишних сантиментов язык проступает в ней трогательная, светлая привязанность к героям. Жалость к ним и уважение. Этим, думается, и должен руководствоваться литератор, усаживаясь за чистый лист бумаги.
Удовлетворяя же собственную амбициозную претензию, он обязательно будет слегка презирать читателя. На что тот ответит закономерным забвением его книг. Читатель, Слава Богу, всё ещё чуток к Слову! А невежественный человек (не возьмусь сказать «читатель», такие вряд ли читают!), как в случае с верзилой в электричке, обрушит ощущение своей жизненной несостоятельности на себе подобных.
Мне даже кажется, что господам литераторам ещё придется пожать урожай своего полу брезгливого — полу равнодушного отношения к читателям. Ведь нет гарантии, что какой-нибудь от природы гениальный юноша, преломив свой божественный дар в безликой, безнравственной, безнадежной современной русской литературе, не станет злодеем. Или я ошибаюсь?
Октябрь 2002
И долго нам еще учиться…
В одну из тех весен, что давно стала прошлым, неуклюжий, слегка заикающийся профессор, с которым мы были знакомы от силы полчаса, тихо заметил: «Ваше сердце полно обид. Ему тяжело. Не храните обиды в сердце, отпускайте их». И вздохнул. Его взгляд, устремившийся куда-то за пределы бледных стен аудитории, не ожидая чужого откровения, замер на мгновение, потом будто встрепенулся, блеснув влагой. И вновь потух. Профессор задумчиво тронул пальцами серый от пыли подоконник. И больше ничего не сказал.
Эти слова часто возвращаются ко мне и также часто убегают, настигнутые новыми хлопотливыми мыслями. Укрывшись где-то в закоулках души, они молчат до поры. Когда пора настает (а бывает она странно-внезапной остановкой шага, фразы, жеста), то снова тревожными горошинами рассыпается в пространстве жизни чей-то незнакомый шепоток: «Ваше сердце полно обид…». Он уже мало походит на профессорский баритон. Все больше тончает. И чем дальше, тем сильнее обозначаются в нем кажущиеся посторонними, но все-таки — собственные — нотки.