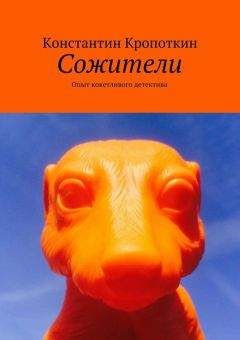Илзе Индране - Камушек на ладони. Латышская женская проза
В последние годы набирает силу художественная проза, которая уже не столь непосредственно опирается на историю, и это свидетельствует о том, что акценты смещаются с регистрации фактов прошлого на их художественное осмысление, с признания бессилия человека перед катаклизмами истории на судьбы народа, увиденные в более крупных закономерностях. Одно из таких произведений — основанный на исторических источниках роман В. Румниекса и А. Миглы «Куршские викинги» (1998), в котором картина древней истории латышей включена в повествование со стремительно развивающимся сюжетом и почти кинематографичной образностью. Мир IX века, схватки куршей с датчанами, шведами, жмудинами, обостренное чувство жизненного предназначения человека и захватывающий героизм событий — все это живет на страницах книги, рассказывающей о малоизвестных эпизодах становления латышской нации, многим знакомых лишь по фразе, звучавшей в устах иноземцев тех времен: «Боже, спаси нас от чумы и от куршей!» Большая удача авторов — способность сбалансировать историческую фактуру с психологическими нюансами. Яркий, самобытный язык — закономерная составляющая изображаемого мира наряду с первозданностью природы. Дыхание неприглаженных инстинктов и эмоций, где нежность и грубость сосуществуют, даже теряя четкое разграничение, создает впечатление истинности.
Интересный аспект контактов латышского народа с другими нациями обозначен в романе А. Заране «Запал» (1997), рассказывающем о взаимоотношениях латгальцев конца XIX — начала XX в. с поляками, которые издавна населяли Латгалию, юго-восточный край Латвии. Различия в бытовых традициях и мировосприятии и взаимная лояльность порождают еще одну форму миропорядка — поле соучастия, равноправия, взаимопонимания в материальном, а также духовном пространстве.
Другую модель самоощущения латыша предлагает А. Бэлс в романе «Латышский лабиринт» (1998), книга в хронологическом, понятийном и идейном плане продолжает два предыдущих романа автора — «Облитые солнцем» (1995) и «Черная мета» (1996). Все они говорят о чувстве безысходности вкупе с глобальным осмыслением мира в сознании латышского народа, начиная с 40-х гг. XX в., однако «Латышский лабиринт» в большей мере проникнут безысходностью, поскольку называет жизнь человека существованием в социальном и даже космическом лабиринте, и все же воспринимается оптимистично, так как в его центре — личность, осознающая в тяжкую минуту и чужую, и свою вину и обреченность, но не сломленная. Эти три романа А. Бэлса, модернистски напряженные и философски насыщенные, говорят о самом существенном в Латвии второй половины XX в., сохраняя характерные для автора особенности писательского почерка: своеобразное восприятие среды, фиксацию тончайших подвижек в подсознании героев и в то же время лаконичное до конспективной плотности повествование.
О том же самом — о трагике столетия, но отраженной в сознании латышки, живущей вне Латвии, рассказывает М. Гутмане в книге «Письма матери» (1998). Это эссе о физической и духовной отторженности от родины, когда исчезают границы между желаемым и воображаемым, между отрешенностью и мечтой, бывшим и невозможным. Единственной стабильной ценностью в мире становится субъект книги — чувствительная, ищущая самовыражения в слове душа, поскольку человек телесно и духовно разлучен с территорией, которая и есть его родина, и он не знает ничего другого, кроме своей души. Родина — это зов неизведанного мира, немотивированное, но неизбывное ощущение причастности и отчаяние от непреодолимости границ.
Современность в видении латышских прозаиков высвечивается отдельными гранями — не в полноте всех ее измерений. Со времени выхода романа Г. Репше «Апокриф теней» (1996) лишь в ряде рассказов отдельных авторов мир предстает как единство, как яркая, сложная, многогранная цельность. В блестящей по стилистике книге «Быть может, так больше не будет никогда» (1997) Р. Эзеры объединены яркость бытовых деталей и философичность картин природы. Первую часть сборника составляют несколько психологически тонких рассказов, в которых угадываются отзвуки философии экзистенциализма, вторую же часть занимают заметки типа дневниковых. В центре мира, созданного Р. Эзерой, — личность, эмоции которой на грани экзальтации, а скепсис близок к апатии. Мир — это сцена под открытым небом, на занозистых или скользких от дождя досках которой «я» разыгрывает свой собственный образ — порой кокетливый, порой требовательный, порой проникнутый самоиронией.
В сборнике рассказов Н. Икстены «Обманчивые романсы» (1997) психологические нюансы запредельного пространства имеют точно обозначенные корни в реальной жизни — оба мира неразделимы. Событием стал роман в новеллах Н. Икстены «Празднество жизни» (1998). В нем в изложении семи человек развертываются блестящие и трагические (что нередко одно и то же) страницы жизни одной женщины, психологически тонко, с языковой красочностью раскрываются многообразные коллизии между существующим и воображаемым, трагика непреодолимости судьбы, взаимопроникающие связи мечты и реальности. Тончайшие связи.
Событием следует назвать и роман Г. Репше «Красное» (1999). Три его части охватывают по меньшей мере две исторических эпохи — приблизительно IX — Х века и наши дни. За стремительно развивающимся сюжетом и интригующей формой, где как будто все понятно, угадывается и некая тайна, которую можно назвать мистерией происходящего, скрытым смыслом. Главное значение приобретают взаимопереходы рождения и смерти, вибрации, проблески, свечения, едва уловимая грань и возможность обратимости. Тайна возникновения жизни и ее дальнейших путей становится основным вопросом этого мира, возможность зарождения жизни во время интимных отношений и магическое ритуальное действо — как бы два разных проявления одного процесса. Да и сама тайна подается не как следствие ограниченности понимания героев романа, она — в самой сущности персонажей, в основе мироздания.
Сознательная разорванность мира существует в прозе как художественный прием (в постмодернистской литературе он часто ассоциируется с понятием реминисценции) или же как воплощенный в тексте итог нарочито культивируемого авторами напряженного состояния души, попавшей в крайнюю ситуацию, когда пишущий неспособен воспринимать мир как единое, причинно-обусловленное целое. Первая из этих возможностей ярче всего проявляется в короткой прозе Я. Эйнфелдса и его романах «Книга свиней» (1996) и «Старики» (1999), а также в романах П. Банковскиса «Книга времен» (1997) и «Тонкий лед» (1999). Более эмоционально и более точно в философском смысле она реализована в романе И. Граудини «Бумажное небо, тканая земля» (1998). Приметы второй просматриваются в произведениях некоторых авторов самого младшего поколения, к примеру, в прозе, публикуемой в журнале «Луна». В первом случае все присутствует одновременно (все времена, все пространства, реальное и ирреальное, высокое и низкое и т. д.) и развивается по неким угадываемым закономерностям, человек же во всем этом хоть сколько-то дееспособен. Во втором случае смены временных и пространственных измерений неуловимы рационально, и человек в подобном мире совершенно беспомощен.
В новейшей латышской прозе прошлое стремится к фактологической упорядоченности и становится фактом искусства. Настоящее подается крупным планом, яркость или параметры рассматриваемых деталей, случается, заслоняют необходимую для фона перспективу. Происходящее сегодня порой воспринимается чересчур эмоционально, и его пропорции деформируются. Авторское видение мира зачастую фрагментарно и изображаемая картина дробится на мелкие части: это лишь материал для интеллектуальных упражнений, если, конечно, интерпретатора не обескураживает отсутствие видимых возможностей упорядочить хаос.
Тем не менее, латышская проза в последнее время обретает достоинство и мажорность. Во-первых, это чувствуется в тематике: индивид и история, улаживание их взаимных счетов больше не преобладают в ней. Во-вторых, пошел на убыль исторический пессимизм — неспособность эмоционально принять историю, тенденция упорядочить ее хотя бы интеллектуально, словесно или прагматически, через многочисленные описания. В-третьих, художественно зрелые произведения прозы стремятся к раскрытию глубинных взаимосвязей человека и тонких материй, человека и Космоса. Или, по крайней мере, очень серьезно ставят вопрос о Космической пульсации жизни.
* * *Где же в общей картине латышской прозы созданное женщинами-писательницами, если посмотреть на литературу с такой точки зрения? Некоторые линии уже обозначились, когда мы говорили о главных тенденциях новейшей латышской прозы без попытки противопоставить непротивопоставимые части литературы — различные взгляды мужчин и женщин на мир, расхождения в ощущениях и интонации. Должно быть, именно женщина в своей прозе, как и во всем течении жизни, точнее всего чувствует и адекватнее воспроизводит эту Космическую пульсацию жизни во всевозможных ее проявлениях: физических и душевных, временных и вневременных, детализированных и абстрактных. Привычная реальность и реальность иного типа — вот с чем мы сталкиваемся, читая женскую прозу последнего десятилетия.